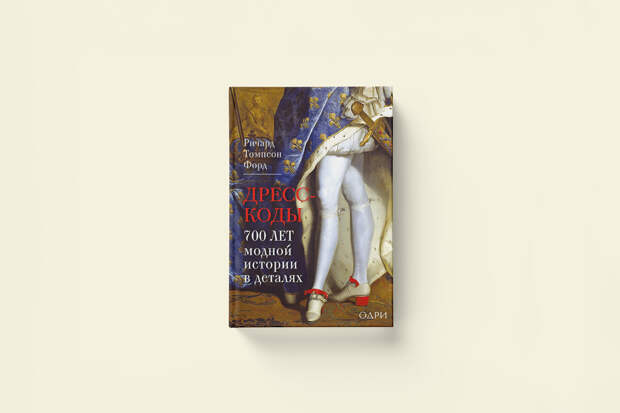
В издательстве ОДРИ вышла книга «Дресс-коды. 700 лет модной истории в деталях». «Сноб» публикует отрывок.
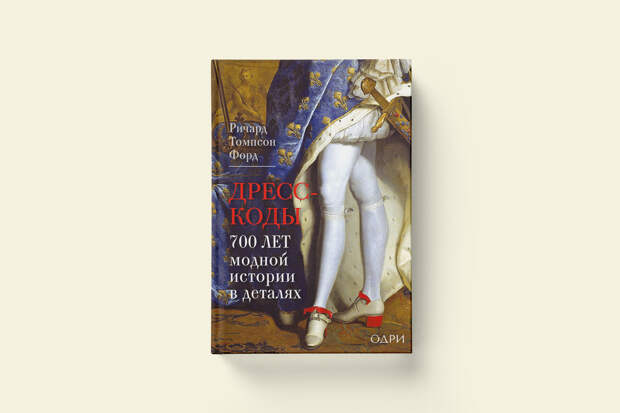
Кодировка статуса
О чрезмерном выставлении напоказ коротких штанов, корон, сборчатых воротников, бархата и малинового шелка
В 1565 году несчастного Ричарда Уолвейна, слугу Роуленда Бэнгема, эсквайра, арестовали за ношение «чудовищных и возмутительно пышных коротких штанов». За это модное преступление Уолвейна продержали под стражей «до того времени, пока он не купит или иным образом не получит в свое распоряжение штаны приличного и дозволенного фасона и сорта... и не предстанет в этих новых коротких штанах» перед лорд-мэром Лондона. Суд постановил конфисковать оскорбительный наряд и выставить его «на открытом месте в каком-либо здании, где люди смогут его должным образом рассмотреть и оценить как пример наивысшего безрассудства».
Историк Виктория Бакли описывает короткие штаны этого периода как «объемные шорты... расширяющиеся от талии и сужающиеся вокруг верхней части бедер».
Они «зачастую могли быть... нелепыми, с огромным количеством подкладок и подбивок и даже... с вшитыми вставками из шелка кричащего цвета, которые обладатель мог вытащить сквозь прорези в верхнем слое ткани, чтобы еще больше уподобить их подушке...».
Такие короткие штаны были парашютными штанами своего времени, а Ричард Уолвейн — рэпером Хаммером эпохи Ренессанса. По мнению властей, короткие штаны стали угрозой общественному спокойствию в елизаветинской Англии.
В официальном объявлении 1551 года говорилось, что «в последнее время ношение коротких штанов ужасной и оскорбительной величины. .. просочилось в королевство к великому очернению его и увеличению числа тех, кто ими пользуется. [Эти люди] добывают их незаконными путями... которые приводят их к разложению».
Закон накладывал суровое наказание на тех, кто носил такую контрабандную одежду. Наказание Ричарда Уолвейна было мягким по сравнению с тем, что вынес Томас Брэдшоу, торговец-портной, который в том же году был арестован за ношение слишком объемных коротких штанов «против правильного порядка». Суд постановил, «что всю набивку и подкладку следует отрезать и вынуть... А его облачить в дублет [облегающую куртку] и короткие штаны и провести в таком виде по улицам до его... дома. И там вырезать набивку и подкладку из других штанов». Модные преступления считались порождением греха тщеславия, и наказание публичным унижением за них признавалось самым подходящим.
Ношение коротких штанов хорошего вкуса обычно не наказывалось законом, даже во время думавшей о моде Елизаветы. Какими бы безвкусными или некрасиво набитыми ни были короткие штаны и какими бы тщеславными ни были те, кто их носил, почему власти с помощью закона наказывали подобный дресс-код? Ричард Уолвейн и Томас Брэдшоу не только нарушили каноны изысканности в одежде. Они нарушили политический порядок в обществе, в котором внешний вид считался маркером ранга и привилегий. Их бросающееся в глаза одеяние сочли своего рода контрафактом, который угрожал экономически подорвать прерогативу аристократии, снижая стоимость ее вестиментарной валюты.
С конца Средних веков до эпохи Просвещения и закон, и обычай требовали, чтобы одежда указывала на принадлежность к социальному классу, касте, роду занятий, религии и, разумеется, к полу ее обладателя. Эти дресс-коды превращали одежду в символ статуса, устанавливая вестиментарный язык, сохранившийся до наших дней. В каком-то смысле законы Тюдоровской эпохи, запрещавшие вызывающие короткие штаны, продолжали древнюю традицию. Спартанцы завоевали репутацию суровых людей благодаря одному из самых ранних из известных законов против роскошной одежды. А их соперники афиняне издали законы, ограничивавшие роскошную одежду, в VI веке до н. э. Римляне, первыми использовавшие термин «регулирующие» для законов такого рода, приняли множество законов, ограничивавших пышную одежду, а также изобильную пищу, роскошную мебель и обмен дорогими подарками.
Первый средневековый европейский закон, запрещавший излишнюю роскошь, был принят в Генуе в 1157 году, а к концу Средних веков регулирующие дресс-коды были широко распространены по всей Европе. Ранние дресс-коды служили для продвижения добродетели аскетизма и для предупреждения излишних трат. Они ограничивали не только использование роскошной одежды, но и чрезмерные расходы на пиры и празднества, такие как свадьбы и похороны.
Начиная с 1300 годов регулирующие законы все чаще касались одежды. Моралисты осуждали ее за роскошь, которую в лучшем случае считали отвлечением от более важной духовной чистоты и религиозного благочестия, а в худшем — греховным потаканием плоти. Для религиозных властей украшение тела относилось к приманкам, которыми развратные женщины пытались ввергнуть мужчин в грех и распутство. Сама одежда была следствием грехопадения. В указе от 15 июня 1574 года королева Англии Елизавета I привела более прозаические причины того, почему регулирование одежды считалось делом национальной безопасности.
Королева настаивала на том, что дорогой импортный текстиль, меха и готовая одежда нарушают торговый баланс: «Деньги и сокровища королевства не должны расходоваться на указанные излишества». Соревнование, кто лучше одет, подрывало закон и порядок, так как стоимость роскошной одежды угрожала разорением людям со скромными средствами и толкала их на преступления:
«Большое число молодых джентльменов, во всех остальных отношениях полезных обществу, и других, кто стремится демонстрацией одежды добиться, чтобы их сочли джентльменами, кто прельстился тщеславным показом подобных вещей, не только уничтожают себя, свое добро и земли, оставленные им родителями, но и погружаются в долги и хитрости, так как не могут жить, не совершая незаконных действий и не подвергая себя опасности наказания по закону...»
Такими были стандартные оправдания регулирующего законодательства, но с большей вероятностью главной целью множества новых дресс-кодов было сохранение символов статуса для элиты. Главной проблемой, которую решали регулирующие законы, было не то, что «люди низшего сорта», как было написано в одной из елизаветинских прокламаций, соблазнялись одеждой, которая была им не по средствам, а то, что они могли позволить себе конкурировать с элитой в одежде. В самом деле, в преамбуле к Акту 1533 года, регулирующему одежду, говорится:
«Из роскошных и дорогих одеяний, которые по обычаю носят в этом королевстве, проистекли и проявляются ежедневно подобные многочисленные и видимые неудобства, приносящие большой, явный и заметный урон всеобщему благу, подрывающие правильный и политический порядок в распознавании людей в соответствии с их владениями, превосходством, достоинством и званиями». Многие регулирующие законы конца Средних веков и эпохи Возрождения недвусмысленно ссылаются на социальный ранг и статус. К примеру, в 1229 году король Франции Людовик VIII ввел ограничения на одежду знати, пытаясь взять феодалов под централизованный контроль. А в 1279 году король Филипп III Смелый ограничил роскошь нарядов в соответствии с количеством земель во владении. Английский «Статут, касающийся питания и одежды» 1363 года напрямую связывал роскошь одежды с богатством.
Городские жители и землевладельцы с сопоставимыми доходами были объектами одинаковых ограничений в одежде. Регулирующий закон Милана 1396 года освободил жен рыцарей, адвокатов и судей от ограничений в одежде и украшениях, тогда как в преамбуле к последующему миланскому закону 1498 года откровенно говорится, что он стал ответом на жалобы знати на то, что их привилегии уменьшаются. В соответствии с этим законом сенаторы, бароны, графы, маркизы, монахи, монахини, лекари и в некоторых случаях их жены освобождались от ограничений.
Пока законотворцы пытались примирить знать и новые модные тренды, правила приобрели совершенно невообразимый характер. Практически каждая деталь одежды могла стать потенциальной мишенью для ограничений по закону. В Генуе в 1157 году запретили использование отделки из соболя. В 1249 году в Сиене ограничили длину шлейфов на женских платьях.
В 1258 году король Кастилии Альфонс X разрешил носить алые плащи только королю, а шелк только знати. Папский легат в Романии в 1279 году потребовал, чтобы все женщины региона носили вуали. А в Лукке в 1337 году запретили носить вуали, капюшоны и накидки всем женщинам, за исключением монахинь. Флорентийский закон 1322 года запрещал всем женщинам, кроме вдов, носить черное. В 1375 году в Л’Аквиле только родственники-мужчины недавно усопшего могли ходить небритыми и отращивать бороды, и только в течение десяти дней.
Короны были отдельной проблемой. В конце XIII века во Франции король Филипп IV Красивый ограничил ношение корон высшим сословием. Его жена Жанна Наваррская по крайней мере однажды язвительно высказалась по поводу преобладания роскошной одежды: «Я считала себя единственной королевой, и вот я нахожусь среди сотен!» Многих возмущало неоправданное использование короны.
В 1439 году анонимный критик в Брешии пожаловался, что «строители, кузнецы, мясники, обувщики и ткачи одели своих жен в багряный бархат, шелка, дамаск и тончайший пурпур; у их рукавов, похожих на широченные флаги, атласная подкладка, подходящая только королям, на их головах сияют жемчуга и богатейшие короны, тесно усаженные драгоценными камнями...».
Если верить Никколо Макиавелли, то Козимо Медичи, могущественный флорентийский банкир и правитель Флоренции в начале XV века, сказал: «С помощью двух ярдов красной ткани можно выглядеть благородным человеком». Так как высшие классы стремились сохранить статус-кво перед лицом разрушительных новаций, количество регулирующих законов резко выросло, достигнув пика в процветающую эпоху Возрождения, начиная с XIV века. В городах всего итальянского полуострова и республики, и деспотии вводили новые ограничения на явную демонстрацию роскоши, особенно в одежде. Европейские правительства изобретали новые дресс-коды в отчаянной попытке опередить новую моду и новые деньги.
К примеру, по мнению историка Алана Ханта, число регулирующих законов во Флоренции выросло с двух в XIII веке до двадцати в веке XVII. В Венеции был один такой закон в XIII веке, а в XVII веке их стало 28. В Англии в XIII веке не было никаких регулирующих законов, но в XVI веке их было уже 20. В конце XV века в Испании было всего два регулирующих закона, но к XVI веку их было уже 16. Во Франции в XII веке был один подобный закон, но их насчитывалось 20 в XVII веке.
К этому времени ограничения были введены и в уголовное законодательство, и в экономику. Закон 1656 года разрешал полиции останавливать и обыскивать людей на улицах Парижа в поисках товаров, которые нарушали регулирующие коды. Торговцы, продававшие запрещенные товары, облагались штрафом, а при неоднократных нарушениях могли лишиться патента, то есть законного разрешения на занятие торговлей.
Регулирующие законы конца Средневековья и эпохи Возрождения были попытками определить социальное значение одежды. Эти законы стали ответом на новую социальную мобильность и нестабильность, которые появились вместе с экономическим процветанием. По мере того как Европа поднималась из тьмы Средневековья, новые технологии, новые возможности для торговли, увеличившаяся миграция и рост населения дестабилизировали старый социальный порядок.
Размах перемен конца Средневековья сравним с промышленной революцией XIX века или современной эпохой высоких технологий и глобализации. В XII веке началось производство бумаги, был изобретен магнитный компас и построена первая из известных ветряная мельница. Аванпосты Ганзейского союза городов, достигшего зенита в XIII и XIV веках, располагались далеко на востоке (Россия) и далеко на западе (Англия). Ганза контролировала торговлю в Балтийском и Северном морях. Торговля расширялась, появлялись новые состояния и новые идеи. Великий шелковый путь начал регулярно функционировать в XIII веке, и в Европу потекли технологии и товары Востока, больше всего из Китая, который был в те времена самым крупным производителем в истории.
Первые европейские университеты были основаны в XII и XIII веках. Ученые из Италии, Англии, Испании и Португалии начали переводить греческие и арабские тексты. Так в Европе появились утраченные древние знания и новаторские идеи в математике, науке и философии. Всплеск технологий и торговли позволил торговцам, купцам, банкирам и другим представителям мелкой буржуазии окружить себя роскошью, доступной прежде только аристократам-землевладельцам. Тем временем процветавшая торговля ношеным, а иногда и ворованным платьем угрожала еще сильнее размыть понятие престижа и запутать социальное значение одежды.
Свежие комментарии