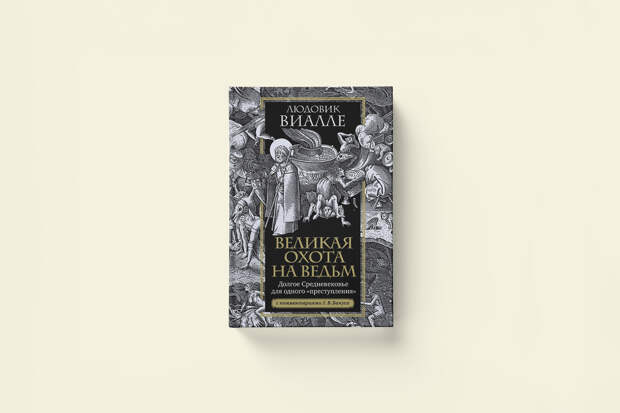
В издательстве «КоЛибри» выходит книга «Великая охота на ведьм». «Сноб» публикует отрывок.
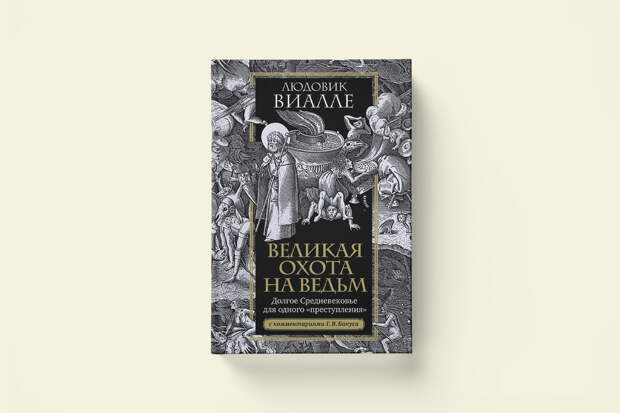
Борьба с «мятежницами и ослушниками»: возникновение «преступления против величия»
Развитие процедуры следствия, поощрение признания
Будем исходить из единственной вещи, имеющейся в нашем распоряжении: приговоры и признания, сохранившиеся в архивах. Долгое время историки игнорировали основной принцип, согласно которому юридический источник не может считаться оригинальным, потому что, с одной стороны, он постоянно перерабатывался с использованием косвенной речи (Item, dixit quod...: «также он сказал, что...») или даже вымышленных диалогов между судьей и подсудимым, придуманных писцом. Поэтому подобный источник говорит нам больше о судье, чем об обвиняемом, и нисколько не «регистрирует» его слова. Вот почему сегодня мы совершенно иначе, нежели сорок лет назад, расцениваем показания Жанны д’Арк, равно как и ее боевого товарища Жиля де Ре — «Синей бороды» из легенды, обвиненного в убийстве десятков детей.
Читая бредовые, но, в сущности, похожие или даже идентичные рассказы, содержащиеся в сотнях документов, единственно возможным путем является попытка понять принципы и механизмы, приведшие к созданию этих документов, иначе говоря, получить представление о том, как работала чрезвычайная судебная процедура, рассматривавшая самые тяжкие преступления.
До XII века осуществление правосудия опиралось на обвинительную процедуру: судья выступал на сцену в результате выдвинутого обвинения, и ему оставалось только найти доказательства. Начиная со второй половины XII столетия церковь стала самостоятельно вести следствие, организовав его по древнеримскому образцу и используя, когда речь заходила о защите общественного дела или величия (majestas) народа и государя. Церковные легисты, и прежде всего из окружения Папы, разработали чрезвычайную процедуру, применяемую при совершении наиболее опасных преступлений («жестоких» преступлений), основанную на проведении расследования исходя из fama publica — то есть на основании «общественной молвы». В 1215 году IV Латеранский собор в своем 8-м каноне предписал начинать расследование против любого, уличенного молвой (fama) в «бесчинствах». Также были разработаны основные элементы процедуры, позволяющие трибуналу возбуждать дело, не дожидаясь обвинения или доноса, чтобы быстро и эффективно реагировать на угрозу, которую суд сочтет серьезной. А для церкви подобная угроза относилась прежде всего к области веры. В 1199-м в декреталии Vergentis in senium Иннокентий III повторил античное понятие majestas, чтобы уподобить ересь преступлению «оскорбления величия» (crimen majestatis).
То, что происходило на протяжении последующих десятилетий, является исключительно важным феноменом в западноевропейской истории. Начиная с середины XIII века стали проводить обязательное судейское расследование в рамках преступлений против человеческих величеств. В самом деле, под влиянием имперской судебной системы, а также судебной системы французского королевства, вновь обратившейся к заимствованиям из римского права, majestas поместили в центр юридической конструкции, уподоблявшей «оскорбление величия» отказу от естественного и законного порядка. Crimen majestatis сыграло важную роль в сложных отношениях, объединявших в конце Средневековья церковь, государство и право. С ним был тесно связан мятеж, поскольку, рассматриваемый отныне как антоним послушания, он становится подлинно юридическим определением в начале XIV века в законах Ad reprimandum и Quoniam nuper, изданных германским императором Генрихом VII в 1313 году.
Недавно приобретенные знания из области историографии показывают, насколько становление государства, именуемого современным, осуществлялось, скорее, через сложное явление сращивания с церковью, нежели через отличие, конфликт или же компромисс с ней. Проницаемость между обеими юрисдикциями затрагивала не только людей и институты, но также процедуры и понятия. Majestas стало, таким образом, главным оружием в построении системы государственной власти. Однако, как и в случае тяжких преступлений, когда совершалось покушение на majestas, простого сопоставления свидетельских показаний было недостаточно, чтобы добраться до истины: о наличии преступления свидетельствовало признание.
Выдвижение на первый план признания в юридической практике XIII–XIV веков произошло одновременно с введением обряда обязательной ежегодной исповеди, равно как и подробного анализа своего поведения, своих намерений. Позаимствовав это оружие, применявшееся в борьбе с еретиками, королевские и княжеские чиновники также усвоили ряд элементов процедуры следственного характера, проложив Западу дорогу в эпоху «добывания признания»: отныне исповедника, инквизитора и судью теоретически больше ничего не сдерживало, никакие сокровенные тайны — occulta cordis, — поскольку их дозволялось принудительно выведать в судебном порядке. Как показал Жак Шиффоло, величие князей, а в Италии —суверенных городов, институционно выстраиваемое в допросном процессе, основывалось на подчинении, внушении безусловно глубокого внутреннего благоговения перед сувереном. Так формировался политический подданный, подданный монархии Старого порядка, в связке с активными силами, принимавшими участие в конструировании подданного психологического. Этот важный союз позволил подойти к тому, что Мишель Фуко назвал «дисциплинарной властью»: строгая критика, к которой — не обязательно принимая полностью — следует прислушаться, а также такие дисциплины, как психиатрия и, разумеется, психология, но главным образом психоанализ, основанный на возобновлении признания.
В курсе под названием «О правительстве живых», прочитанном Мишелем Фуко в Коллеж де Франс в январе–марте 1980-го, он использовал ряд текстов христианских теологов II–V веков, чтобы в рамках своего «генеалогического» подхода – то есть уделяя внимание конкретным историческим процессам — изложить основы, обусловливающие подчинение западноевропейского подданного. Представляя этот курс, оставшийся неизданным, в резюме, помещенном в «Ежегоднике» Коллеж де Франс, Фуко ставил простой вопрос:
Как получается, что в западноевропейской христианской культуре правительство добивается от руководимых им людей послушания и подчинения, «искренних поступков», особенность которых определяется тем, что от подданного требуют не только говорить правду вообще, но говорить правду и о самом себе?(«Dits et Ecrits», Gallimard, 1984)
В начало долгого пути, приведшего к созданию западноевропейского подданного, Фуко помещает связь между послушанием и признанием, установленную ранними христианами. Попутно, духовное руководство становится той сферой, где подданный-христианин, желая избежать обманов Сатаны и добраться до истины того, что он есть на самом деле, обращается за помощью к моральному авторитету и платит за эту помощь ценой подчинения и зависимости. На линии огня Фуко сводит счеты с психологией, обвиняя ее в том, что она посредством принуждения закрепляет такое устройство власти, которое делает людей управляемыми. Французский философ не ставил под сомнение психологию как науку, и уж тем более не считал ее — в отличие от современных ему критиков-марксистов, — идеологическим творением на службе экономического и политического господства.
Свежие комментарии