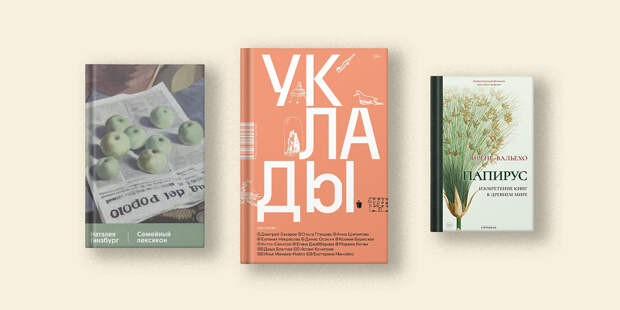
Эти книги из осенней подборки журнала «Сноб» написаны в разное время авторами из разных стран, но все они сходятся в одном: интеллектуальный капитал куда важнее финансового.
Янис Варуфакис «Технофеодализм»
Издательство Ad Marginem, перевод с английского Алексея Снигирова
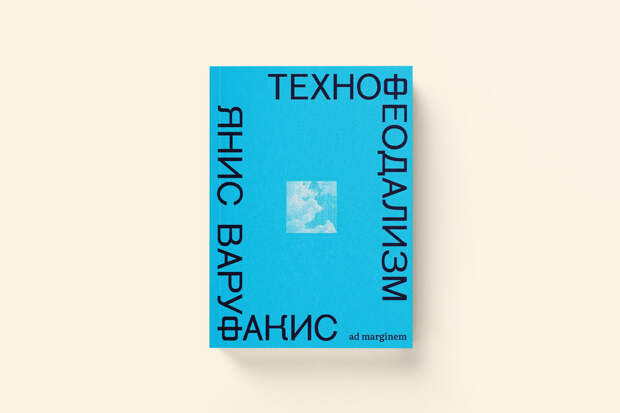
Финансовый капитал в современных условиях накапливается совершенно иным способом, чем мы привыкли: цифровые технологии изменили экономику. Капитализм умер — на смену ему пришел технофеодализм, утверждает бывший министр финансов Греции, экономический визионер Янис Варуфакис.
Традиционные капиталистические предприятия, в том числе добывающие, 80 % своей выручки тратят на зарплаты. Современные гиганты — Amazon и Google — строят свою мощь на пользовательских данных и контенте, который мы создаем добровольно и бесплатно. Платформы извлекают сверхприбыли, а на поддержку инфраструктуры и развитие тратят 1–2 % выручки. Янис Варуфакис сравнивает корпорации с феодалами и называет их доходы рентой. «Настоящая революция, которую облачный капитал совершил в отношении человечества, — пишет он, — это превращение миллиардов из нас в добровольных облачных крепостных, охотно работающих бесплатно, чтобы воспроизводить облачный капитал на благо его владельцев».
Варуфакис считает, что капитализм умер в 2008 году, уступив место технофеодализму. Деньги все чаще застревают в «облачных империях», не возвращаясь в реальную экономику, что ведет к росту неравенства и грядущим кризисам. Капиталистические компании, даже получив сверхприбыль, вернули бы львиную долю выручки в экономику, выплатив зарплаты и дивиденды, цифровой же капитал в оборот не возвращается. Понимание новой формы экономики, уверен Варуфакис, помогает прояснить многие политические решения и векторы современной геополитики. США и Китай уже воюют за контроль над цифровой рентой, и противостояние будет только усиливаться.
Прогноз Варуфакиса тревожный: мировую экономику ждет череда глобальных кризисов. Его рецепт — коалиция против технофеодализма и демократизация цифровых компаний: Янис Варуфакис в книге предлагает серию последовательных реформ. Вопрос, однако, в том, захотят ли сами пользователи отказаться от удобства соцсетей и алгоритмов ради свободы.
Джулиан Ричер «Этичный капиталист»
Издательство «Синдбад», перевод с английского Алексея Капанадзе
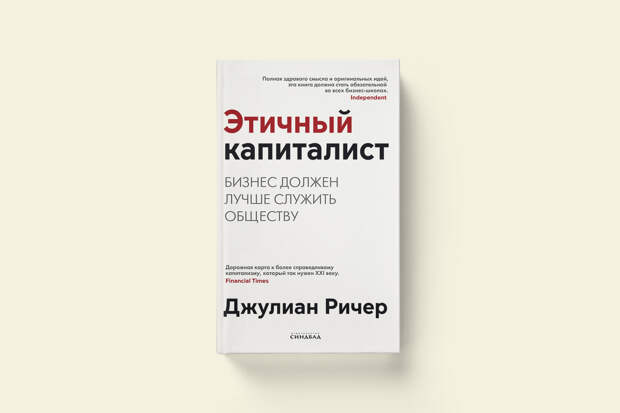
Если же вы управляете традиционной компанией, ваш самый ценный актив — люди, напоминает Джулиан Ричер, основатель крупнейшего и самого популярного в Британии ретейлера видео- и аудиотехники Richer Sounds. Он открыл свой первый магазин в Южном Лондоне в 1978 году, в возрасте 19 лет. И уже четверть века Книга рекордов Гиннесса фиксирует, что магазин Ричера имеет самые высокие продажи на единицу площади среди всех торговых точек мира. За 40 с лишним лет Ричер выработал собственные принципы ведения дел, которые называет этичным капитализмом. «Я полагаю, — пишет Ричер, — что в основе этичного поведения лежит моральный кодекс, который вырабатывался обществом на протяжении веков под влиянием мировых религий и жизненного опыта и который служит гарантией единства общества в долгосрочной перспективе». Суть этичного капитализма, по Ричеру, в том, что «мы должны делать все от нас зависящее, чтобы те, с кем мы взаимодействуем, от сотрудников до клиентов и общества в целом, чувствовали, что благодаря нашей работе их жизнь становится лучше — и в материальном, и в психологическом плане». Сейчас, когда на рынок труда выходят молодые люди с другими ценностными установками, более требовательные к работодателю и внимательные к своим потребностям, опыт Ричера крайне востребован.Этичную организацию надо создавать с момента открытия вакансий и переговоров о зарплате и условиях труда, настаивает Ричер и рассказывает о простых инструментах для руководителей и менеджеров, которые помогают выстраивать бизнес. Он не скрывает, что этичное ведение дел — долгий и трудный процесс, требующий огромных усилий и постоянного внимания. Но на основе собственного опыта и кейсов других известных брендов, таких как Domino’s Pizza, Lush, Apple и других, доказывает, что именно этичный бизнес выигрывает в долгосрочной перспективе.
Сергей Канунников «Хочу машину! Личный автомобиль в советской повседневности (1917–1991)»
Издательство «Новое литературное обозрение», серия «Культура повседневности»

Многолетний автор журнала «За рулем», историк автопрома Сергей Канунников написал живую и подробную историю личного автомобиля в СССР, показывая машину не просто как технический, но как социальный феномен. В советское время, как мы помним, автомобиль был не просто средством передвижения, а маркером статуса, признаком принадлежности к узкому кругу «избранных». В условиях дефицита и очередей, растягивавшихся на годы, обладание автомобилем превращалось в форму неофициального капитала — символ доступа к благам, недоступным большинству.
Канунников, опираясь на исторические факты, воспоминания автолюбителей и архивные материалы, показывает, как автомобиль встраивался в систему сложных социальных лифтов. Он пишет и о самих машинах, и об особой советской двойственности: с одной стороны, машина — мечта «простого советского человека», с другой — привилегия номенклатуры. Власть допускала «личную собственность», но боролась с «частной» — ведь та подразумевала извлечение прибыли. Однако уже в 1930-е машина стала инструментом социального расслоения, а к 1970-м — и вовсе валютой черного рынка. Дефицит запчастей, очереди на покупку, блат и спекуляция — все это сделало автомобиль «золотым теленком».
Канунников прослеживает, как через историю автомобилизации проступают контуры советской экономики: плановая система, создававшая искусственный дефицит, и теневая — его преодолевавшая.
«Хочу машину!» напоминает, что даже в эпоху «тотального равенства» вещи говорили громче слов. И сейчас, когда люди по-прежнему используют статусные вещи и автомобили для демонстрации доходов, положения в обществе и собственной жизненной философии, им не помешает лучше разбираться в тонкостях культуры повседневности.
Ирене Вальехо «Папирус. Изобретение книг в древнем мире»
Издательство «Синдбад», перевод с испанского Дарьи Синицыной
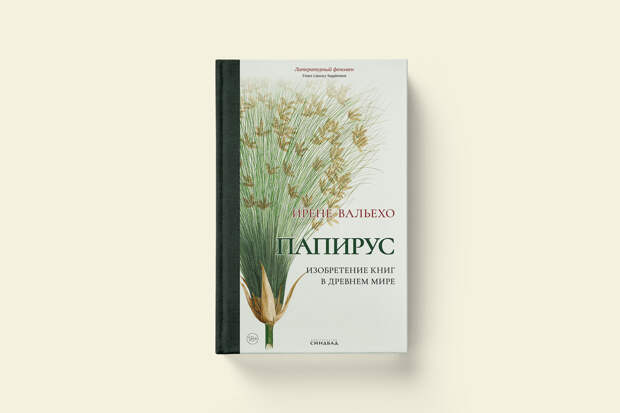
В широком смысле капитал — это ресурсы, которые можно использовать для развития. Для человечества в целом это, конечно, знания и культура. Интеллектуальный капитал копится не в банках, а в библиотеках, не в алгоритмах, а в человеческой памяти. В «Папирусе» испанская писательница и доктор филологии Ирене Вальехо разворачивает перед читателем три тысячелетия борьбы за знания — и оказывается, что интеллектуальный капитал всегда был самым хрупким, но и самым надежным активом. Ее исследование-размышление о судьбе Книги наглядно показывает, что история письменности — многовековая цепь усилий, жертв и случайностей. Хранители Александрийской библиотеки, переписчики средневековых манускриптов, контрабандисты запрещенных текстов, переводчики, книготорговцы и коллекционеры — все они спасали идеи от забвения, огня, варваров и цензоров, превращая их в коллективное достояние. «Папирус» Вальехо сопровождается многочисленными отсылками к историческим фактам, биографиям, текстам от античности до наших дней. Она рассказывает, как папирусные свитки и шелковые страницы уступили место книгам бумажным, а сегодня — цифровым. Но книга у Вальехо — не просто объект, а живой организм, способный пережить империи. И пока есть те, кто готов его беречь и вкладывать свои силы в сохранение и передачу смыслов, как египетские библиотекари, римские переписчики, монахи-бенедиктинцы, советские самиздатовцы, владельцы независимых книжных, цивилизация не исчезнет.
Наталия Гинзбург «Семейный лексикон»
Издательство «Подписные издания»
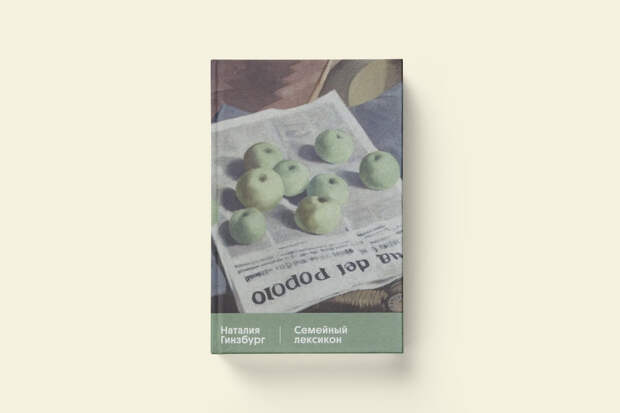
В турбулентные времена, когда даже самые устойчивые активы обесцениваются, у человека остаются память и язык. Легкая и воздушная по стилю и манере изложения и вместе с тем глубокая и горькая по своей сути книга современного итальянского классика, писательницы и переводчицы Наталии Гинзбург вышла в 1963 году и с тех пор не теряет актуальности и популярности. «Семейный лексикон» Гинзбург не просто мемуары, а капсула, в которой запечатаны голоса, интонации, шуточки и словечки, а вместе с ними память о дорогих сердцу людях — новаторский для 1960-х необычный автобиографический роман. Остроумная, точная в выражениях Гинзбург знакомит читателей со своей шумной семьей, где была младшей дочерью. Пятеро детей Леви, их родственники, друзья, соседи живут в Турине в начале ХХ века, наблюдая, как страна во главе с Муссолини пропитывается фашизмом. Наталия не скрывает антифашистских семейных взглядов, легко рассказывая, как ее мать, оптимистичная синьора Лидия, ждала, пока кто-нибудь «возьмет да и спихнет» Муссолини, и, собираясь на улицу, говорила: «Пойду посмотрю, как там фашизм — еще не рухнул?» Не скрывает она и цены за эти убеждения — отец и братья Наталии сидели в политической тюрьме, а ее первый муж, знаменитый славист Леоне Гинзбург, умер в заключении от болезни и пыток.
При этом собранный на живую нитку памяти «Семейный лексикон» — не только о частной жизни одной семьи. Он о том, как язык сопротивляется забвению даже тогда, когда реальность делает все, чтобы стереть тех, кто на нем говорил. Фашизм, тюрьмы, смерть близких — Гинзбург пишет об этом сдержанно и почти небрежно, будто бы единственное, что действительно важно, — это сохранить интонацию отца, язвительную реплику матери, абсурдный семейный анекдот. Гинзбург позволяет прочувствовать язык как форму коллективного бессмертия и код сопротивления: пока живы слова, произнесенные за обеденным столом, живы и те, кто их говорил. Сегодня «Семейный лексикон» читается как манифест в защиту хрупкого и личного, напоминая: наш капитал отнюдь не только в цифрах на счету, а в этих нелепых, трогательных, порой совершенно нефункциональных фразах, которые мы, сами того не зная, бережно передаем детям. Потому что именно они — последнее пристанище тех, кого больше нет, и семейное наследство, которое действительно стоит сохранять.
Сборник «Уклады»
Издательство «Альпина нон-фикшн»
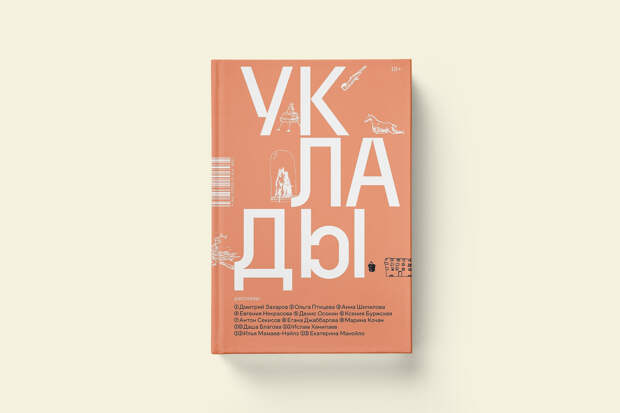
Сборник рассказов 13 пишущих на русском языке современных авторов. «Уклады» — это 13 способов доказать простую и важную мысль: культура — единственный капитал, который невозможно конфисковать, девальвировать или потерять окончательно. Нас во многом определяет культурный код: свадьбы, похороны, семейные застолья, обряды взросления. Авторы сборника, от Екатерины Манойло и Ислама Ханипаева до Анны Шипиловой и Еганы Джаббаровой, показывают: хоть в дагестанской деревне, хоть в московском толкинистском клубе нулевых человек проходит одни и те же архетипические инициации. Цифровая революция может заменить реальное свидание свайпом в приложении, но не отменит сам ритуал ухаживания. Глобализация стирает границы, но не власть сезонных циклов — сибирская зима в рассказе Дмитрия Захарова так же беспощадна, как и 100 лет назад. «Независимо от земли, где он появился на свет, и принятой там культуры, человек взрослеет через игру, учебу и общение, — поясняет идею сборника в предисловии его составительница, писательница Евгения Некрасова, — выбирает профессию, соблюдает традиции и ритуалы, ходит гостем или гостьей на свадьбы, прощается с близкими на похоронах, провожает друзей в далекие путешествия или на службу, принимает участие в радостных или печальных застольях сначала ребенком, потом подростком, а дальше взрослым. Человек узнает, что такое смерть и любовь, женится или выходит замуж. Когда в семье появляется на свет еще один человек, он проходит тот же цикл». Авторы сборника рассказали через художественные тексты о традициях своих или близких культур: «Егана Джаббарова — об укладе одного азербайджанского дома, Ислам Ханипаев — о мужской социализации в дагестанской деревне, Денис Осокин упоминает удмуртский и даже китайский фольклор, а Екатерина Манойло пишет о свадьбе на пересечении двух культур: казахской и русской. Антон Секисов проходится по российской деревенской хтони. Марина Кочан пишет об универсальной начальной точке путешествия любого героя и героини — рождении». Читая «Уклады», понимаешь: когда люди играют в Sims, спорят о фольклоре за праздничным столом, выбирают между пастушеством и влогингом будущую профессию, пекут масленичные блины, ищут папоротник на Ивана Купалу и оплакивают ушедших, они, по сути, занимаются тем же, чем их предки тысячи лет назад. И в этом повторении — гарантия того, что даже в эпоху катастроф что-то важное останется нетронутым.
Подготовила Наталья Ломыкина
Свежие комментарии