
Для художественного руководителя труппы musicAeterna Dance Анны Гусевой театр — это пространство постоянного эксперимента. В интервью «Снобу» она рассказала о том, почему трансформация — единственная постоянная величина в искусстве, как рождается спектакль-ритуал и почему в основе любого творчества лежит диалог — с миром, со зрителем и с самим собой.

О природе творчества
Вы постоянно переизобретаете себя: актриса, художник, режиссер. Где вы находите точку опоры в этом калейдоскопе ролей? Или суть как раз в этой непрерывной трансформации?
В человеке есть страсть к переменам и одновременно — страх перед ними, желание расширять границы. Мы же не статичные существа. Мы все время движемся, и единственное, что мы знаем точно, — это что когда-нибудь умрем. Поэтому трансформация — естественное условие жизни. И, мне кажется, точек опоры в этом процессе не существует. Есть внутренний объем, который позволяет воплощать разные задачи. Этот объем зависит от того, рождаются ли внутри человека пространство для осознания и язык для передачи новых смыслов. Мишель де Монтень в своих «Опытах» цитировал Конфуция: «Чтобы совершить революцию, нужно сначала сформировать язык». Так и с осознанием: в юности книгу не понимаешь, а через годы возвращаешься, и вдруг все становится ясно — начался новый этап зрелости, внутри появилось пространство для понимания. Это происходит как бы само собой — с проблемами, болью, страхами, оглядками, синдромом самозванца... Развитие — в трансформации, она всем необходима, просто каждому в своем объеме.
Ваши спектакли — это всегда синтез искусств. Как рождается такой «тотальный театр»?
Сначала нужно выбрать метод. Сейчас я работаю с физическим театром, когда эмоции проживаются через тело, когда артисты находятся в максимально открытом, распахнутом состоянии, потому что тело не врет, в отличие от слов. Потом выбираешь нарратив, форму. Если это опера, в ней уже есть сюжет, но способ его подачи — это вопрос выбора. Дальше начинается коллективная работа: с художником, хореографом и так далее. В репетиционном процессе артисты могут существовать как в лаборатории. Иногда случаются вспышки — кто-то из артистов приносит на репетицию гениальную идею. Все это складывается, как пазл. С художницей Юлей Орловой мы сначала собираем концепцию, с хореографом Настей Пешковой решаем, как это будет работать в движении. Каждый раз это пошаговая работа: метод — некая формула подачи — лаборатория — фиксация.

О «Самсоне и Далиле»
Почему для Дягилевского фестиваля вы выбрали именно оперу «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса? И какой для нее избрали метод?
В России эту оперу ставят крайне редко. В Мариинском театре, насколько мне известно, была единственная постановка много лет назад. Меня привлекла эта раритетность, как и в случае с «Персефоной» Стравинского или De temporum fine comoedia Орфа, которые тоже ставятся нечасто. Мне хотелось поработать с мифом, символическим нарративом и крупной формой. Что касается метода, это в некотором смысле ритуальный и по-прежнему физический театр. Это многослойная, сюрреалистическая постановка, второй акт которой — спектакль в спектакле.
Как вы трактуете эту историю?
Для меня история Самсона и Далилы — не просто история любви или войны между иудеями и филистимлянами. Это разговор о накоплении зла в мире. О том, что насилие — плохо вне зависимости от того, во имя какого бога оно совершается. В опере все борются за своих богов, но по сути просто убивают друг друга.Важно понимать, что ты хочешь со зрителем сделать. Если хочешь его поразить, удивить фокусами или сложными интеллектуальными конструкциями, это одно. Если хочешь сочувствия к персонажам, это другое. Если хочешь диалога — третье. Для меня важен диалог, то есть возможность поставить вопрос и поразмышлять над ответом вместе. Я не морализирую, но хочу, чтобы зритель задумался: «А как я влияю на накопление зла в мире?» Остановить насилие не могли ни во времена Ветхого Завета, ни во времена Сен-Санса, и сейчас одним спектаклем мы это сделать не сможем. Но мы можем изменить что-то в нас самих — в этом основная цель. Когда я вижу в либретто и музыке возможность выйти на территорию важной темы, мне важно показать, как она преломляется через внутренний мир персонажей, и через символы поговорить о вещах более сложных — метафизических или экзистенциальных.
В ваших спектаклях часто есть ритуальность, почти мистическая энергетика. Будет ли она в «Самсоне и Далиле»?
Эта опера требует больших форм, потому что на сцене задействовано огромное количество исполнителей. Мы снова строим ритуал с включением в него танцовщиков и хора. Я люблю собирать такое массовое симультанное действие на сцене. Этому методу мы пока что на сцене не изменяем: мне он важен, потому что кажется самым честным.
Ваши спектакли всегда очень живописны. Если бы «Самсон и Далила» был картиной, чьей кисти?
Что-то ренессансное. У меня есть целый набор референсов — это картины эпохи Возрождения, преимущественно эпические многофигурные полотна. Но среди них появляются микросюжеты. Например, у Курбе есть картина «Мастерская художника» — гигантское полотно с большим количеством персонажей, кто-то рисует, кто-то поет, кто-то играет на скрипке, кто-то целуется. А посреди этого творческого хаоса стоит человек со шкатулкой и грустными глазами смотрит вдаль. Это мой любимый персонаж. Такие микросюжеты иногда появляются и в моих спектаклях.
О musicAeterna Dance и Теодоре Курентзисе
Теодор Курентзис назвал ваш тандем с труппой musicAeterna Dance «именно тем, что он хотел». Что в вашем подходе резонирует с его видением? Были ли моменты, когда ваши художественные вселенные сталкивались?
У Теодора есть удивительная способность видеть мир очень детскими, широко открытыми глазами. Он всегда стремится к большему, к тому, что кажется абсолютно невозможным всем остальным. А он этих преград не видит. Это вдохновляет, хотя не все удается воплотить. Но Теодор не настаивает — для него важнее сам диалог, обмен идеями. Нас объединяет вкус к вещам и отношение к людям. Мы стараемся все делать бережно и работать на подъеме, с кайфом. У нас одна цель — творить вместе добро и красоту.
Как вы создавали труппу musicAeterna Dance?
Я хотела создать коллектив счастливых людей — без театрального «закулисья», когда все друг другу улыбаются, а за спиной говорят гадости. Наши артисты — каждый сам по себе уникум. Один рисует, другой поет, третий пишет пьесы, кто-то занимается верховой ездой, преподает свой класс, работает психологом. И они весь этот широкий диапазон взаимодействия с миром приносят на репетиционную площадку. Вот то самое расширение объема, о котором я говорила в начале. Иногда мы собираемся у Насти Пешковой (главный хореограф труппы musicAeterna Dance, хореограф и артистка балета. — Прим. ред.) дома: все приносят краски, и мы рисуем одно большое полотно. musicAeterna Dance — не театр, это образ жизни. Иногда мы шутим, что у нас корневая система как грибница у грибов, огромная общая сеть. При этом немаловажно, что артисты демонстрируют совершенно экстремальные возможности человеческого тела, побеждают гравитацию с каждым днем.
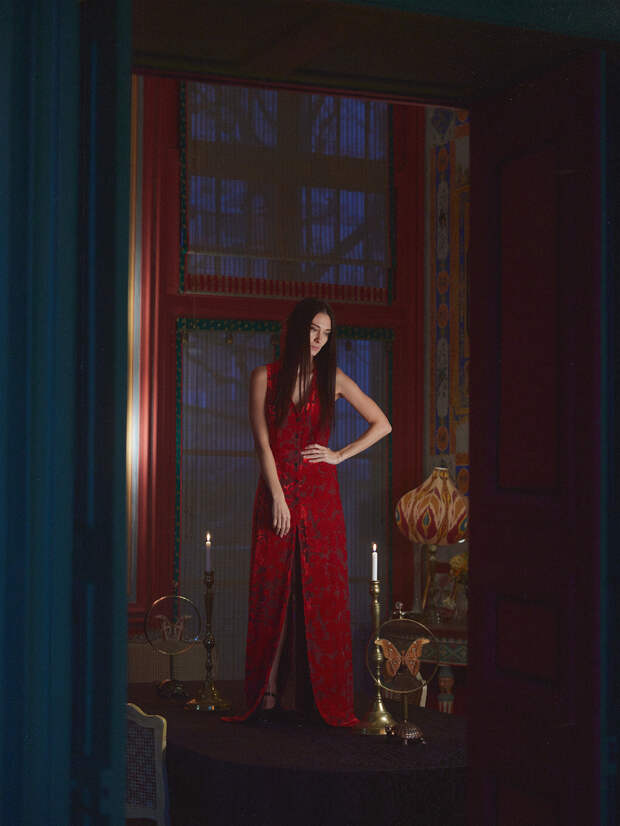
О природе театра
Вы говорили, что «прогресс измеряется ростом любви». Как это связано с театром?
Однажды ламу Сонам Дордже спросили: «Как понять, что ты правильно медитируешь?» Он ответил: «Если вас меньше раздражают близкие, родственники, люди в метро, если вам больше хочется отдавать, чем брать, если вы испытываете больше любви и сострадания к окружающим, это значит, что вы медитируете правильно». Для меня очевидно, что прогресс команды и состояние счастья в труппе — неразрывные вещи. Только процесс взаимодействия равноправных создателей может дать такой эффект. У нас у всех есть свои проблемы, провалы, плохое настроение. Вопрос: что ты приносишь на площадку, а что оставляешь «за кадром»? Чем больше мы знаем и принимаем свои негативные стороны, тем шире возможности транслировать в мир нечто лучшее в нас.
Можно ли назвать ваши спектакли духовной практикой?
Если под духовностью понимать осознанность и чуткость по отношению к другим, то да. Мы не просто рассказываем истории — мы создаем пространство для диалога и для разговора зрителя с самим собой. Важно, какой вопрос ты ставишь, какой диалог начинаешь. Ответов может и не быть. Иногда полезно оказаться в тупике вместе со зрителем, чтобы каждый сам искал выход.
Беседовала Дженнет Арльт
Свежие комментарии