
В этом году школе творческого письма Creative Writing School исполнилось 10 лет. «Сноб» поговорил с Майей Кучерской о том, как изменился воздух литературы за последние годы, чем для писателя полезны и опасны методички, и стоит ли ожидать вторжения ИИ.

Creative Writing School была основана в 2015 году. Какие пробелы в литературной жизни того времени вы хотели заполнить?
Главный пробел, который я хотела заполнить, находился не в литературной жизни, а во мне. Мне в очередной раз показалось: что-то я давно ничего не делала новенького. Так я и повстречалась с филологом и бизнес-леди Натальей Осиповой и поделилась с ней своими мыслями о том, что пора открывать в каком-нибудь российском университете программу по creative writing, потому что во всех американских и британских университетах такие программы есть, а у нас почему-то до сих пор нет. Но почему?
И много с кем я эту тему обсуждала, однако из всех моих собеседников Наташа оказалась единственным человеком, который сказал что-то внятное и живое. Например, что лучше начинать не с университета, а сначала попробовать сделать что-то маленькое. Она согласилась в этом участвовать. Дальше, правда, зазвучали страшные слова: «аренда», «расчётный счёт», «оплата обучения».
Я была бесконечно далёким от бизнеса человеком, и мне было страшно брать с людей деньги. Дело новое, вдруг ничего не получится? Мне казалось, что обманутые вкладчики, ну или просто разочарованные, потрясая вилами, разнесут Тургеневскую библиотеку и нас с Наташей вместе.
Вместе с этим, помимо моего вечного внутреннего беспокойства, существовала и другая причина создания этого проекта. Много лет я работала литературным обозревателем в газете «Ведомости», то есть постоянно читала современные книжки. И довольно быстро поняла, что по какой-то таинственной причине переводные англоязычные книги обычно очень хорошо сделаны. Увлекательный сюжет, живые диалоги, стройная композиция. Их интересно читать! Они не всегда оставляют меня с каким-то открытием, но я всегда ощущаю: писал профессионал. А когда я открывала российские книжки, о которых старалась писать много, считала, что это моя миссия в некотором смысле, то находила там прекрасные глубокие мысли, узнаваемые ситуации, то есть, как правило, как раз с открытиями там всё было в порядке. Но с точки зрения формальной: композиция, герои, диалоги, общая увлекательность и драйв — наши писатели чаще уступали англоязычным коллегам. Я всё время думала: почему так?
И предположила, что, возможно, это потому, что у них есть школа, а у нас нет. Их учат этой профессии, а нас — нет. Конечно, у нас есть Литературный институт, но он не покрывает всего бесконечного литературного поля. К тому же даже тексты выпускников Литинститута не обладали достоинствами текстов англоязычных коллег.
Когда объявление о том, что открываются конкурсы на бесплатные места в нашей школе, каким-то чудом появилось в журнале «Афиша», наш скромный имейловый ящичек буквально взорвался от желающих. На все четыре направления — проза, сценаристика, биография и перевод — повалил народ. Казалось, что все только и ждали, когда наконец откроется эта школа.
До этого я много лет преподавала литературу, даже русский язык, но не creative writing. И меня поразило, как на моих глазах люди из абсолютных начинашек — а мы так обозначили точку входа: вы должны быть совсем в начале пути, — за смешной срок в две недели начинают писать лучше. И пишут в конце концов очень хорошие, пусть и очень коротенькие рассказы.
И как, получилось у вас повысить общий уровень профессионализма?
Да, несомненно. Не только наша, но и другие школы творческого письма, которые вскоре стали открываться одна за другой, на это повлияли.
Даже люди, которые не доходили до курсов, что-то всё равно слышали. В итоге многие осознали, что, например, не понимать, что такое арка героя, сегодня уже как-то не комильфо. Ты можешь эту арку рушить, всё делать по-своему, но это та самая литературная грамота, которую нельзя не знать!
Думаю, большое влияние на расцвет творческого письма в России оказало и то, что уже к началу 2000-х литература стала жить по законам рынка. И к 2010-м стало понятно, что за читателя надо сражаться, а он скорее предпочтёт увлекательную книгу, чем рыхлую и сложную для чтения, пусть и полную гениальных идей и прозрений.
Но вот сейчас открываешь книжку современного российского автора, и ясно видишь следы «литературного обучения». Понимаешь, что этот человек, по крайней мере, заглянул в книжечки о том, как написать бестселлер, как работать со структурой романа и с персонажами.
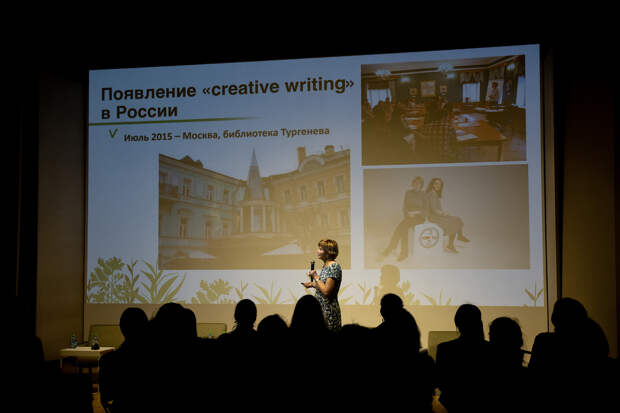
А это точно хорошо? Проходя через «литературное обучение», авторы получают одну и ту же формальную прошивку: у них общие наставники, одинаковое представление о методах, о положительных сторонах текста, о доступных инструментах. Это не делает их слишком похожими друг на друга?
Это один из ключевых вопросов. Я думала о нём с самого начала, но мне не сразу стало понятно, что это реальность: если ты преподаёшь одни и те же основы литературного ремесла самым разным людям, то они, собственно, так и начинают писать. Теперь я особенно ценю книги, в которых не вижу следов «литературного обучения». Потому что когда оно заметно, это означает, что писатель ещё не окончил «литературную школу», он ещё где-то в шестом классе. А вот «выпускник» уже может писать настолько свободно, что не будет видно швов и ниточек, и это будет профессионально.
И я много думала про противоядие от этой унификации. Одно из самых очевидных — приглашать работать в Creative Writing School преподавателей с разными писательскими установками. Условно говоря, постмодерниста, или там постпостмодерниста, и традиционалиста. Автора фэнтези — и автора психологических реалистических романов. На преподавании каждого неизбежно ложится печать того, что он сам делает в литературе.
Кроме того, всё-таки Creative Writing School — это не армия. Даже когда мы смотрим на строй солдат, мы всё равно видим, что кто-то там блондин, кто-то брюнет. У кого-то глазки узенькие, у кого-то круглые. Это разные лица. Хотя они одеты в одинаковую форму и выстроены по росту. Так что ещё один антидот заключается в том, что писатели — разные люди. Уже поэтому их тексты будут сильно отличаться друг от друга.
Философия всех курсов по creative writing всё равно общая — это сознательное отношение к писательству. Здорово, когда у тебя вдохновение, и ты летишь в космос, но дальше, перечитывая, ты должен всё равно вспомнить какие-то фундаментальные правила и провести редактуру.
Разве эти правила не ограничивают автора?
Кто может поставить границы вдохновенному, всклокоченному художнику, который охвачен своими замыслами? Правила могут его чуть-чуть притормозить, но остановить или ограничить — нет. Они — всего лишь русло, по которому свободно перемещаются его фантазия, чувства, идеи.
Ещё можно сравнить правила творческого письма с правилами языка. Мы не можем быть понятыми, или над нами будут смеяться, если мы будем говорить, не соблюдая правил.
Получается, есть такие люди, которым нечего сказать, и они бы закономерно ничего и не написали, но вы научили их «говорить» в какой-то приемлемой форме, и их тексты стали частью литературного процесса. Не причиняет ли это вред литературе?
Мне кажется, что благодаря курсам creative writing общий уровень литературных графоманов тоже повысился. Кроме того, думаю, что писать полезно даже самым-самым обыкновенным людям, у которых нет литературного таланта. Письмо — это форма психотерапии. Способ отпустить внутренних демонов.
И совершенно не обязательно, чтобы все выпускники нашей школы становились писателями. Такой амбиции у меня нет. А вот повышать и дальше уровень литературной культуры — это да, этого хочется.

В русской культуре литература всегда воспринималась как некое священнодействие. Пришлось ли как-то адаптировать западную модель creative writing под эти представления?
Удивительным образом развитие creative writing, или, как говорил Горький, «литературной учёбы», в России и в Соединённых Штатах происходило практически параллельно. Только причины у этого разные. В Америке в 1920-е годы бурно развивалось рыночное искусство — Бродвей и Голливуд, фабрики шоу и фильмов. Чтобы этого молоха кормить, нужны были люди, которые умеют сочинять истории. Поэтому именно в 1920–1930-е годы в Америке стали выходить потоки тоненьких книжечек про то, как написать пьесу, как сочинять смешно и так далее — про разные аспекты. Программы литературные, как Workshop в Айове, например, появились значительно позже, уже в послевоенное время. Но вот сама идея, что писательству можно научить, зародилась тогда.
У нас в те же двадцатые годы происходит то же самое. «Как делать стихи» Маяковского — это не случайный текст, это просто дерево в лесу. Про то, как делать стихи и прозу, тогда говорили и писали очень многие. Но причины были другие: нужно было растить новое поколение писателей, которые станут рупором советской власти и пропаганды, которые напишут про колхозы, про новую прекрасную советскую жизнь. Кто мог стать таким писателем? «Бывшие» перестраивались с трудом, даже если хотели, — нужно было растить новых авторов, из безграмотных крестьян и рабочих. Поэтому советские учебные пособия по письму, конечно, разительно отличались от американских. В наших писали о том, чем прилагательные отличаются от существительных, что такое рифма — то есть давали элементарные знания, рассчитанные на человека, который, может, даже и школу не окончил.
И всё же не уверена, что имеет смысл говорить об отдельной русской школе creative writing, но, безусловно, отличия от англоязычного преподавания творческого письма существуют. Они связаны и с тем, что русский язык устроен несколько иначе, и развитие русской литературы шло другим путём. Предполагаю, что отсутствие предельной рациональности в языке делает и русские романы чуть более, что ли, расслабленными.
Кажется, что свободолюбивому русскому языку может мешать полностью проявить себя дисциплина, которую предполагает creative writing. Получаются ли книги ваших успешных выпускников действительно русскими?
Мы вступаем на опасную почву. Что такое «действительно русскими»? Скажем, Достоевский объявил, что Пушкин обладает всемирной отзывчивостью, пониманием и сочувствием к разным культурам и народам. И что это качество он унаследовал от русского народа. И если первую фантазию можно хотя бы обдумывать, то вторую — никак. Потому что Александр Сергеевич был воспитан на французских романах, его домашним языком был французский, и всё-таки он стал создателем русского литературного языка вслед за Карамзиным. Но думаю, как раз поэтому и стал — что хорошо читал и говорил по-французски. Подозреваю, что всё сколько-нибудь выдающееся в культуре становится возможным благодаря тому, что автор питается из многих источников.
Кого ни возьми — все крупные писатели были внимательными читателями европейской литературы. Гоголь, учившийся у Гофмана, Тургенев, Толстой — которых не понять без обращения к французской и английской литературе. Твоё высказывание будет ущербным, если ты будешь растить его из единственного, понятного тебе клочка земли. Оно должно питаться соками всей земли, всей нашей планеты. Вот почему вполне себе англоязычная, кто ж спорит, традиция преподавания творческого письма только обогащает русскую литературу.
А за русскость в русской литературе отвечает, конечно же, русская тематика. Всё-таки о русских реалиях никто не напишет так же хорошо, как русский автор, который здесь родился, вырос и понимает здешнюю жизнь изнутри.
Писательством обычно занимаются в одиночку — только автор и материал, лицом к лицу. А в основе вашего обучения лежит контакт между студентами. Как эта коллективная модель работает?
Прекрасно. Человечество давно открыло этот принцип. Для этого люди когда-то собирались в монастырь. Вместе веселей молиться. Или вот, например, группа анонимных алкоголиков. Одному трудно бросить пить, но когда ты встречаешься с братьями и сёстрами по беде, и все вы в одной ситуации, всем очень трудно, но вы вместе — становится легче. Кто-то сорвался — и рассказал про это, и его поддержали. Кто-то, наоборот, двигается семимильными шагами, и все тянутся за ним. Понятно, что собираться вместе можно не только для победы над зависимостью, над болью, но и для чистого созидания.
Вот весь год в CWS у нас шёл курс «Год большого романа», девять месяцев. И люди, которые прошли его до конца, и в самом деле написали романы. Я дико им завидую. Меньше года! Это бешеная скорость. Уверена, никто из участников «Года большого романа», существуй он сам по себе, без наставника, без еженедельных упражнений, — не написал бы роман. Я это, к сожалению, наблюдаю по многочисленным выпускникам. Единицы в состоянии бежать дальше сами. Самые сообразительные после окончания обучения создают свои маленькие писательские сообщества, марафоны, чтобы так же продолжать двигаться вместе с кем-то.

Юбилей проекта — хороший повод, чтобы рассказать о планах на будущее. Какие новые идеи вы хотите реализовать?
Мы в CWS с самого начала нашего существования пытаемся заполнять лакуны. Например, более-менее стихло активное обсуждение современной литературы. Что с ней происходит, как она развивается? Куда идёт? Раньше этим активно занимались критики на жаловании. Но уже последние лет десять литературная критика существовала в исчезающем режиме, пока почти полностью не оказалась вытеснена литературным блогингом. В этом нет ничего плохого, кроме одного: у литературного блогера нет обязательств перед читательским сообществом. И филологического образования часто тоже нет.
Кроме того, в последние два–три года литература начала меняться. Изменился контекст, изменился воздух. Давайте не будем забывать, что в данную минуту кого-то убивают и с той, и с другой стороны. И давайте это войдёт в интервью, да? Потому что я не говорю сейчас ничего страшного. Я говорю чистую правду. Мир изменился. Россия изменилась. Появились новые реалии. Литература неповоротлива — это не публицистика — но тоже начала меняться. Это надо было зафиксировать: эпоха кончилась, и начинается другая. И мы зафиксировали, записали курс. Большой курс лекций специалистов по современной литературе, который описывает литературный процесс до 22-го года включительно. Точка. Пока мы ещё помним, как тогда было.
Кроме того, меняется читатель, меняются его ритмы жизни. Всё стремительно ускоряется. И писать сегодня так, как писали, скажем, 20 лет назад, можно. Но на этой прозе будет лежать печать времени. Но как писать о современности современным языком? Кто про это расскажет? И мы попросили современных писателей рассказать, как они пишут о современности. Записали ещё один курс. То есть Creative Writing School выполняет ещё и роль литературной институции, которая размышляет про то, что происходит вокруг.
Конечно, необходимо постоянно двигаться вперёд и меняться, этого требует и время, и рынок — ты не можешь стоять на месте, иначе погибнешь. Но всё-таки литература работает с живым словом, и отрекаться от этого ради новых технологий не стоит. Иначе ты выплеснешь самое ценное и важное.
Вы в том числе про искусственный интеллект? Как думаете, может он в скором времени потеснить позиции Creative Writing?
Конечно, у меня ушки на макушке, и мне очень интересно, куда всё будет двигаться и меняться. Но если говорить не о наших курсах и магистратуре в Вышке, в программах которых, наверное, придётся учитывать эти перемены, а о себе, то я не волнуюсь. Искусственный интеллект всё равно не помешает мне испытывать счастье, которое даёт только занятие творчеством. Поэтому даже если вдруг через несколько лет он сможет писать лучше, чем человек, испытаю ли я ревность? Нет. Потому что радость от сотворения всех этих несуществующих миров и людей так огромна — никто и ничто у меня её не отнимет.
Беседовал Илья Склярский
Свежие комментарии