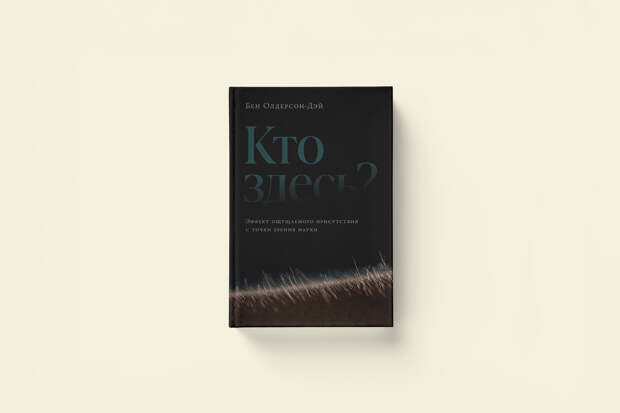
Профессор психологии, научный руководитель Международного консорциума по исследованию галлюцинаций (ICHR) Бен Олдерсон-Дей написал книгу «Кто здесь?». «Сноб» публикует отрывок.
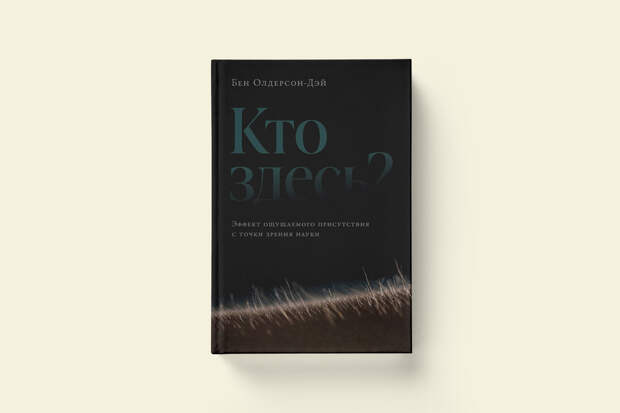
Вещи, о которых никогда не следует говорить
Если вы ищете тех, кто когда-либо ощущал чужое присутствие, то первые же истории, которые вы услышите, будут почти всегда связаны с местами, где лежит снег. Много-много снега. Пустынные просторы, экстремальные условия, грандиозность природы — кажется, что всё это объединяется, чтобы явить молчаливые фигуры, как будто некоторые пространства созданы специально, чтобы порождать чувство присутствия.
Вокруг таких мест часто образуются целые сообщества людей. Возможно, ощущение присутствия не совсем обычное явление здесь, но оно не кажется неожиданным. Одно из таких сообществ — это альпинисты и скалолазы, которые хорошо знают подобные истории и часто их рассказывают. Ощущаемое присутствие в них обычно носит другое название — «третий человек».
Источником этого названия послужила поэма Томаса Элиота «Бесплодная земля» (1922).
В своих примечаниях к этой поэме Элиот писал, что читал об «одной из антарктических экспедиций (забыл какой, но, кажется, одной из экспедиций Эрнеста Шеклтона)», во время которой «у группы исследователей было постоянное наваждение, что в ней на одного человека больше, чем на самом деле».
Элиот имел в виду злополучную экспедицию на судне «Эндьюранс» в 1914 г., в ходе которой Шеклтон и его команда пытались пересечь Антарктиду, начав с побережья моря Уэдделла. На самом деле они так и не высадились в Антарктиде: потеряли судно и несколько месяцев дрейфовали на льдине. Кульминацией этого путешествия стал 36‐часовой переход Шеклтона с двумя спутниками через остров Южная Георгия: этого никто не делал раньше и мало кому удавалось осуществить позже. Все трое мужчин утверждали, что во время перехода ощущали присутствие четвертого человека: кто-то шёл рядом с ними на протяжении всего пути, пока они не достигли безопасного места.
Они почти ничего не рассказывали об этом ни тогда, ни позже, и тем не менее этот случай вызвал бурю эмоций в последующие годы. Отголоски истории о призрачном путешественнике породили слухи, которые, однажды возникнув, уже не исчезали. Когда другие люди слышали об этом, они делились своими историями о молчаливых спутниках, сопровождавших их — на ледниках, на дне пропасти, высоко в горах под облаками. «Четвёртый» из команды Шеклтона, увековеченный в стихах Элиота, стал «третьим»: неизвестная закутанная фигура, появляющаяся в трудные времена, — это «...он, шагающий рядом с тобой».
Может показаться, что это далековато от психиатрической клиники, но именно на подобные рассказы я наткнулся прежде всего, когда задался целью выяснить, что такое феномен присутствия. Сразу же бросается в глаза, что в экстремальных ситуациях подобный опыт обычно не пугает и не тревожит людей — скорее, наоборот. В некоторых случаях присутствие такого «попутчика» ободряет, придает мужества и сил, столь необходимых на последнем этапе путешествия. Южноафриканский врач Пол Фёрт, описывая спуск с горы Аконкагуа в Аргентине, говорил: «Я испытывал ощущение, что меня кто-то сопровождает... Я продолжал спускаться, чувствуя себя несколько странно: словно парил над своим телом, а мой невидимый спутник следовал за мной, побуждая продолжать путь. Спустившись с горы, я почувствовал себя сильнее, а мой попутчик исчез так же таинственно, как и появился».
В 1933 г. Фрэнк Смайт, поднимавшийся на Эверест без кислородных баллонов, испытал похожее ощущение: «Всё время, пока я поднимался в одиночку, сохранялось чёткое ощущение, что меня сопровождает другой человек. Это чувство было настолько сильным, что полностью избавило меня от чувства одиночества, которое я испытывал в других ситуациях». В какой-то момент Смайт даже обернулся, чтобы поделиться со своим спутником мятной плиткой Kendal.
У Райнхольда Месснера, как и у многих других альпинистов, был богатый опыт подобного рода. Ощущение присутствия «третьего человека» возникло, когда он искал своего брата на Нангапарбате в 1970 г. (к сожалению, та экспедиция закончилась трагедией). Позже появлялись альпинисты-фантомы, державшие его верёвки, когда в 1980 г. он шёл на Эверест тем же путем, что и Смайт.
Вполне вероятно, что с таким опытом люди сталкивались на протяжении многих веков, когда призрачные спутники появлялись ниоткуда среди метелей, на склонах гор и ледников, а затем снова исчезали. Когда речь идет об альпинистах, возникновение галлюцинаций часто объясняют воздействием высоты. Гипоксия — недостаток кислорода в мозге — может быстро вызвать эффекты, похожие на последствия травмы мозга, наряду с паникой, дезориентацией и помутнением сознания. Исследование, проведённое среди альпинистов, показало, что те, кто поднимался на высоту более 6000 м, чаще других испытывали большое количество галлюцинаторных переживаний. У всех, кроме одного человека, они сопровождались искажениями восприятия собственного тела, как будто границы между ним и пространством вокруг растворялись. Например, один из альпинистов описывал, как чувствовал присутствие другого человека, который поднимается по склону вместе с ним, наряду с «ощущением пустоты» внутри его собственного тела. Гипоксия, быстродействующая и смертельно опасная, может побудить человека остановиться, чтобы отдохнуть, когда это слишком рискованно, или явить картины, вызывающие безрассудное упрямство, или беспричинное ощущение комфорта, или даже желание отступить и отказаться от восхождения. Мозг при нехватке кислорода долго не выдерживает.
Раз гипоксия способна вызывать такие переживания, можно решить, что на этом история и заканчивается. В экстремальных условиях постоянно происходят необычные вещи — особенно с людьми, явно достигшими предела своих возможностей. Но если рассматривать объяснения только такого рода, мы упустим воздействие, которое, по-видимому, оказывают многие из этих переживаний на конкретного человека, и особенно это относится к ощущению присутствия.
Многие изменения в нашем восприятии происходят, не оказывая при этом никакого эмоционального воздействия, — эти переживания могут быть причудливыми, могут быть яркими, но при этом их содержание практически не имеет смысла для людей, их испытывающих, или никак не связано с ними. Мигрени, например, могут вызывать изменения зрения (такие как скотома — выпадение части поля зрения), но случайные вещи, которые видят люди, часто не имеют личной значимости. Точно так же самые простые виды галлюцинаций просто случаются — и о них, возможно, больше нечего сказать.
Но когда люди оказываются в самых тяжелых ситуациях — в одиночестве, обмороженные, измученные, — внезапные изменения восприятия окружающего мира могут оказаться наполненными глубоким смыслом. Призрачная фигура может указать путь во время снежной бури или предложить поддержку в критический момент. Во время злополучной экспедиции на Эверест в 1996 г. Бек Уэзерс, которого дважды сочли умирающим, настолько сильным было его обморожение, внезапно мысленно увидел свою семью: «Моё подсознание так живо показало их, словно они могли в любой момент заговорить со мной. Тогда я совершенно чётко осознал, что если я сейчас же не встану, то останусь на этом месте навечно». Такие видения могут успокаивать и обманывать, вызывать тревогу или выводить из гипотермического сна. Суть не в том, что они вообще происходят, а скорее в том, что они происходят вовремя.
Джон Гейгер, пишущий в соавторстве с психологом Питером Суэдфелдом, утверждает, что это фактически и есть функция ощущаемого присутствия. Проанализировав рассказы об ощущаемом присутствии в экстремальных условиях, авторы пришли к выводу, что «почти в каждом случае они [присутствия] становятся средством преодоления трудностей, так как поддерживают человека в его стремлении выжить».
Правдивы они или нет, но эти рассказы, несомненно, стали частью легенды. Когда я только начал читать об ощущаемом присутствии, во многих историях говорилось о спасении и выживании, об ощущении, как будто некто присутствующий рядом берёт вас за руку и ведет в безопасное место, становясь вашим ангелом-хранителем. Каждое повествование добавляет еще больше загадочности и смысла, и с каждой очередной историей мы снова и снова удивляемся возможностям разума.
Однако каждый такой рассказ добавляет и кое-что ещё. В этих историях опасные ситуации, в которых человеку легко растеряться, обретают структуру, следуют определенным стандартным схемам и имеют решения. Проявление стойкости в них приобретает характер гиперболы, и в конечном итоге оказывается, что всё происходит «не просто так».
Это заставило меня задуматься о том, что упускается в этих историях. Со временем детали, которые не вписываются в повествование, могут игнорироваться и выпадать из него; возникает чувство неоднозначности и неуверенности, замешательства и неопределённости. Возможно, воспоминания о горе и травмах оказываются похороненными в глубинах памяти, но они всё равно будут там — словно ледниковая штриховка на горной породе. А что, если были случаи появления призрачных спутников, которые не закончились спасением людей? Как бы мы вообще о них узнали?
За этими историями видится туманный образ «третьего человека»: он задаёт тон для всех них, но отбрасывает длинную тень на то, что могло бы произойти на самом деле. Мне требовалось узнать о нем больше.
А для этого мне нужно было снова обратиться к истории Шеклтона.
Свежие комментарии