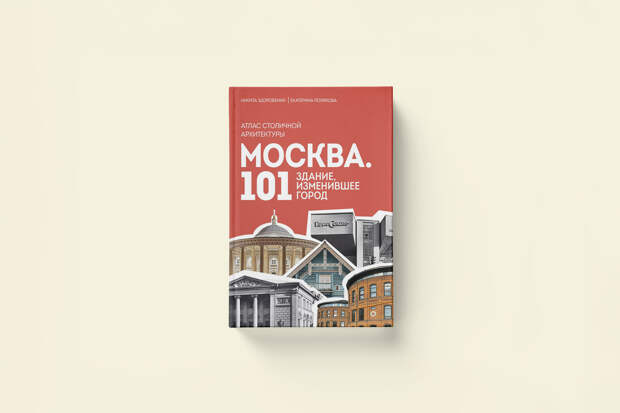
В издательстве «Бомбора» вышла книга искусствоведов, основателей образовательного проекта «города & люди» Никиты Здоровенина и Екатерины Поляковой — «Москва: 101 здание, изменившее город». «Сноб» публикует отрывок.
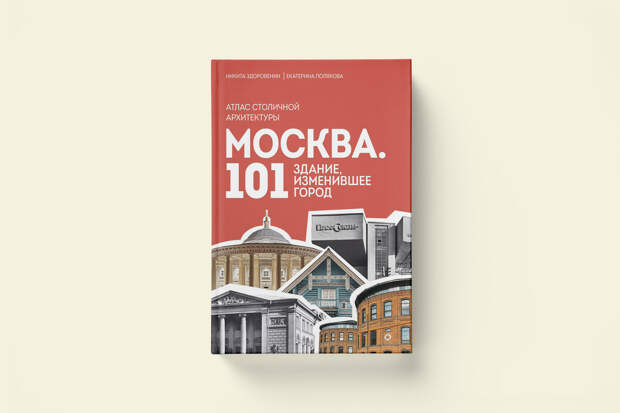
Центральный дом литераторов
Адрес: Поварская улица, 50/53, стр. 1
- Куда пропал князь?
- Что делали с молодыми девушками на балах?
- Как ездить по Москве по-княжески?
В Москве есть не так много княжеских особняков. Особняки с готическими деревянными комнатами — тоже редкость. Но этот подпадает сразу под оба критерия! Скромную московскую вариацию на тему загородного французского шато князь Святополк-Четвертинский заказал у яркого и талантливого архитектора Бойцова. Представьте: к парадному крыльцу особняка, украшенному гербом семьи (в советское время его сбили), на карете подъезжали владельцы. Перед каретой бежит скороход, но не торопится.
Тогда особым шиком считалось ездить медленно. Ну и пусть создается пробка. Князья никуда не торопятся. Они выходят из кареты, им открывают дверь особняка. И с первого же шага становится понятно: Святополк-Четвертинские были прогрессивными людьми. У входа — специальная потайная лестница, чтобы их дочери могли выходить гулять без ведома родителей, когда им захочется. По тем временам — вопиющая либеральность. Однако разделение на мужскую и женскую половину в доме оставалось. Первый этаж был мужским, второй — женским. На обоих этажах одинаково комфортно. Во всех главных комнатах — камины, подсоединенные к хитрой системе труб в стенах особняка. Так что зимой было тепло. Особенно удивительно, что камины до сих пор работают, хотя хитрая система труб — уже нет. В комнатах то тут, то там встречаются оригинальные деревянные детали и мебель. Самый шикарный зал — с огромным цветным готическим окном. При князьях вместо цветных стекол в нем был «морозный» белый полупрозрачный витраж. В этом же зале стоят колонны, как считается некоторыми исследователями, вырезанные из контрабандного сандалового дерева. А у стены скромно ютится редкий старинный стул по проекту Бойцова, архитектора особняка.
Бойцов тогда был известным в Москве человеком и большим любителем нового готического стиля. Неоготические дворцы, особняки, конюшни, павильоны для празднования коронации императора — все это он строил и любил. И в этом проекте не изменил своей страсти к готическому.
Архитектор Бойцов был большим поклонником неоготического стиля и строил в нем дворцы, особняки, конюшни, павильоны для празднования коронации императора.
Князь Голицын рассказывал о заказчике особняка так: «Я смутно помню его , бывшего в Москве, с необыкновенно тупым широким лицом. Когда он умер, его вдова вышла замуж за некоего князя Святополк-Четвертинского, совершенно разорившегося, славившегося своими охотничьими похождениями в Индии и Африке, где он месяцами пропадал; кроме охоты, он любил затевать разные темные аферы, и о нем рассказывал мой отец, что, нуждаясь в деньгах, он однажды украл бриллианты своей жены, о чем та узнала от сыскной полиции...»
Даже потолок большого зала он сделал под английское средневековье из молотковых балок. Такой же прием можно найти в лондонском Вестминстер-холле. В этой готической комнате своего дома Святополк-Четвертинские устраивали балы, на которые гости приводили сватать своих дочерей. Не прийти на бал считалось нанесением оскорбления пригласившему — в следующий раз прогульщика могли и не позвать. А поскольку бал — мероприятие ночное, в сезон все танцевали и социализировались по ночам, а днем бродили уставшими или сладко спали.
Все так и продолжалось, пока Святополк-Четвертинский неожиданно куда-то не исчез. Особняк он то ли продал, то ли проиграл в карты. Что именно там произошло, до конца непонятно. Известно лишь, что князь был очень азартным человеком: игроком, охотником и авантюристом. Вот что вспоминал о его характере князь Голицын: «Я смутно помню его , бывшего в Москве, с необыкновенно тупым широким лицом. Когда он умер, его вдова вышла замуж за некоего князя Святополк-Четвертинского, совершенно разорившегося, славившегося своими охотничьими похождениями в Индии и Африке, где он месяцами пропадал; кроме охоты, он любил затевать разные темные аферы, и о нем рассказывал мой отец, что, нуждаясь в деньгах, он однажды украл бриллианты своей жены, о чем та узнала от сыскной полиции. Жена его как-то вскоре таинственно умерла, а он исчез навеки за границей. Я помню эту чету в Петровском, причем он поразил всех своим необычайным костюмом в белой каске, какие носят в Индии». По одной из версий истории, князь-авантюрист отправился во времена золотой лихорадки в Южную Африку и где-то там, вероятно в поисках золота, пропал.
В этот период особняк перешел к графу Олсуфьеву, совершенно другому по складу души человеку. Вот как о нем говорил Юсупов: «Графиня походила на маркизу XVIII века, супруг ее был лыс, пухл и глух, как тетерев. Когда надевал он свой гусарский мундир, сабля его, больше, чем он сам, волочилась по земле с адским грохотом. Потому графиня вечно тревожилась за его саблю в церкви».
С приходом советской власти особняк со всеми своими историями перешел к Cоюзу писателей. Вот тогда-то началось настоящее веселье. Что здесь байки, а что правда — не разобрать. Есть, например, история о том, как один из руководителей Cоюза писателей мочился со второго этажа на посетителей. А другая — про парикмахера, работавшего тут и говорившего клиентам: «Я вас не стригу, я вас рисую!» Третья история рассказывала про непонятно откуда привозившиеся детские игровые автоматы, в которые писатели безудержно играли, пока эти устройства снова не увозили, а куда — тоже непонятно.
Сейчас в ЦДЛ ресторан. Интерьеры некоторых комнат сохранились восхитительно, многое хорошо отреставрировали. В княжеском особняке получилось на редкость хорошо сохранить атмосферу тонкого аристократического пафоса. И сегодня можно, как и раньше, подъехать на такси (вообразите карету и попросите ехать помедленнее), выйти, подойти к дверям особняка, и вам, как князю Святополк-Четвертинскому, тоже распахнут двери…
Особняк Рябушинского
Адрес: Малая Никитская улица, 6/2, стр. 5
- Какой секрет скрывали Рябушинские на третьем этаже своего дома?
- Чем занималась в детском садике ученица Фрейда?
- Почему в особняке ползет улитка?
Можно ли построить дом, который одновременно будет архитектурой, живописью и скульптурой? Шехтель был уверен, что можно! И создал не просто особняк, а целую иммерсивную инсталляцию. Когда он в 1902 году построил особняк Рябушинского, тот сразу стал достопримечательностью и попал в путеводители. Люди специально приезжали на него взглянуть! Три издательские фирмы печатали его изображение на своих открытках. А некоторые москвичи реагировали бурно и критиковали архитектурную новинку. Корней Чуковский, например, назвал его самым гадким образцом декадентского стиля, потому что в нем нет ни одной честной линии, ни одного прямого угла. А все испакощено «похабными загогулинами», «бездарными наглыми кривулями».
Чем же этот дом так отличался от других, что вызвал у Чуковского такие яркие чувства? Природа — главный вдохновитель проекта. В особняк не входишь — в него как будто вплываешь. И вместе со старинным паркетом-волной уносишься течением до столовой, где недавно раскрыли оригинальные цветные росписи стен. Вслед за плафоном-медузой вползаешь по гребню лестницы выше на балкончик, кромку озера.
Смотришь вниз и… медуза плафона превращается с этого ракурса в черепаху. Всюду ползают улитки, скульптурная ряска лежит на водной глади потолка. На первом этаже мы как будто в подводном мире, на втором — в земном. Поднимаясь на скрытый третий, будто оказываемся на небе с ангелами. А на фризе фасада вечно, даже зимой, цветут гигантские ирисы. Архитектор Шехтель специально ходил искать этот сорт на цветочный рынок и делал зарисовки с натуры. Исследователи модерна иногда сравнивают эту мозаику с ирисами с драгоценным мерцающим поясом, окружающим фасад особняка. В солнечную погоду он действительно мерцает из-за вкраплений золотистой смальты. Фризы сделали по рисунку Шехтеля в мозаичной мастерской Фролова в Петербурге. Вы могли видеть работы этого мастера в метро, его поздние мозаики украшают станции «Маяковская» и «Новокузнецкая».
Шехтель спроектировал особняк по принципам модерна. Это дом, построенный для удобства и наслаждения хозяина. Композиция особняка нестрогая. Главное — это комнаты, лестницы, подвалы. Только следом за ними по важности идут стены и крыша.
Поэтому особняк получился живой, неправильной формы. До модерна особняки обычно строили симметричными и ставили строго по красной линии улицы. А этот дом прячется в саду, сливаясь своими плавными формами с растениями. Модерн для многих стал ответом на ускорение урбанизации и жизни в конце XIX века. Поехали поезда и автомобили, зазвонили телефоны, зажглись первые электрические лампочки, всюду дымили заводы. Тогда появились люди, которые хотели привнести частичку природы в свое жилище. Архитектура прошлого для этого мало подходила — до модерна мы как будто по кругу копировали и переосмысляли античные храмы, бани и акведуки. Художники новой эпохи чувствовали: нужен новый, ни на что не похожий стиль. На такие эксперименты были готовы очень немногие заказчики. Степан Рябушинский оказался из смелых. Ему на начало строительства было 26 лет, и он дал архитектору творческую свободу.
В таком юном возрасте Рябушинский уже многого достиг: молодой предприниматель, совладелец банка братьев Рябушинских и завода АМО, который потом станет известен как ЗИЛ. По образованию он археолог, коллекционирует церковную утварь, пишет статьи об иконописи, является членом Московского археологического института. В своем особняке он создал реставрационную мастерскую и даже планировал открыть музей иконы. Собрание иконописи Третьяковской галереи сегодня состоит во многом из предметов его коллекции.
Давайте рассмотрим детали особняка. Если встать на улицу Малая Никитская и посмотреть на дом, он покажется двухэтажным. Но с обратной стороны прячется тайный третий этаж, где скрывается старообрядческая молельня. Рябушинские принадлежали к общине в Рогожской слободе (около нынешней станции метро «Римская»). До 1905 года старообрядцы зачастую были вне закона. Скрывать свою веру для них было привычным делом.
Однажды Шехтель записал в дневнике: «Мы многое не замечаем, как не замечаем кислорода, которым дышим… Мы не замечаем перил на лестнице, обыкновенно на них и не опираемся… а попробуй их снять. И по лестнице все будут бояться ходить, и лестница никуда не годится». В особняке он все продумывал до мелочей: даже дверные ручки и обивку мебели. Завитки-спирали уличной ограды сделал напоминающими морские волны.
Оконные рамы и входная решетка похожи на вьющиеся побеги. А если внимательно присмотреться к решетке балкона, то можно отыскать орнамент в виде чешуи рыбы. Многим такие архитектурные приемы напоминают Гауди. А почему бы и нет,
Шехтель и Гауди были знакомы, несколько раз встречались, общались и обменивались идеями.
Особняк был полон технических инноваций. Самое интересное, пожалуй, — первый в Москве кондиционер. Гость присаживался на мраморной лавочке в основании лестницы-волны, а из решетки, расположенной рядом, шел поток теплого воздуха.
В советское время в особняке открылся детский сад, который курировали Троцкий, Надежда Аллилуева и ученица Фрейда Сабина Шпильрейн. Заведение называлось «Детский дом-лаборатория “Международная солидарность”». По принципам психоанализа детей старались раскрепостить, позволяя им больше обычного. Смешав в одной группе детей партийной элиты и сирот, воспитывали новое поколение, свободное от расовых и классовых предрассудков. Правда, сад скоро прикрыли — Ленину весь этот психоанализ виделся какой-то буржуазной крамолой.
Чуть позже в особняк въехал Максим Горький. Ему дом совсем не нравился (а может, и лукавил), он поначалу даже отказывался сюда въезжать. «Величаво, грандиозно — улыбнуться не на что... Лучше бы нам дали хорошую квартиру…» На его отказ Сталин написал: «Все писатели очень капризные, а Вы, Алексей Максимович, больше всех. Вам доверяют, Вам хотят угодить, а Вы противитесь и ставите всех в неловкое положение». Сам Горький на это отреагировал трезво: «Но я совершенно точно знаю, что мое поселение во дворце или храме произведет справедливо отвратительное впечатление на людей, которые, адски работая, обитают в сараях». Но, что бы Горький ни писал, его переезд состоялся. Есть мнение, что на этом настояли свыше, так было легче следить за писателем. В 1970-е в стене нашли прослушивающее устройство, а в прихожей сидел комендант, записывавший в тетрадочку происходившее в доме. При Горьком особняк серьезно поменялся. Сюда завезли массивную мебель, комнаты заставили книжными шкафами. Особенно удивляет история исчезновения камина с полуобнаженной женщиной-бабочкой из мрамора. По одной из версий, когда проходило собрание писателей в доме, Горький подметил, что молодые литераторы больше внимания уделяют женщине-бабочке на камине, чем вопросам литературы. И по просьбе нового хозяина шикарный камин разобрали.
В доме могли одновременно собираться до сотни гостей. Сюда до 1934 года заезжал и Сталин, пока отношения вождя и главного писателя Союза окончательно не испортились. Для этих приемов из Кремля приезжали специальные официантки, а блюда по звонку телефона доставлялись из полуподвальной кухни на лифте.
Особняк стал свидетелем важных исторических событий, местом светских приемов и трагичных поворотов судеб. Но задумка Шехтеля сохранилась, дом до сих пор вдохновляет на любовь к природе, работе и деталям. Не зря Шехтель как-то раз записал: «Любовь все побеждает. Любя искусство, мы творим волшебную сказку, дающую смысл нашей жизни».
Свежие комментарии