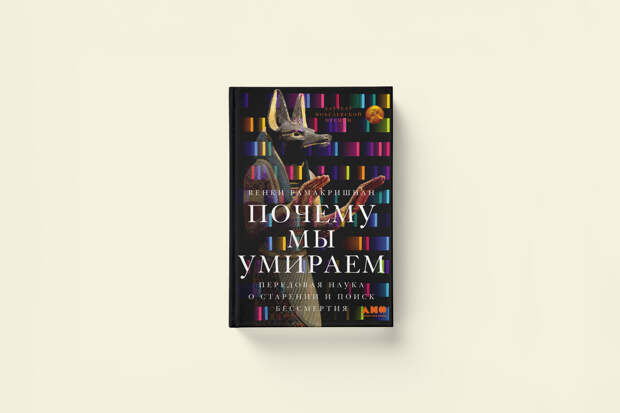
Лауреат Нобелевской премии по химии Венки Рамакришнан написал книгу «Почему мы умираем». С разрешения издательства «Альпина нон-фикшн» «Сноб» публикует отрывок.
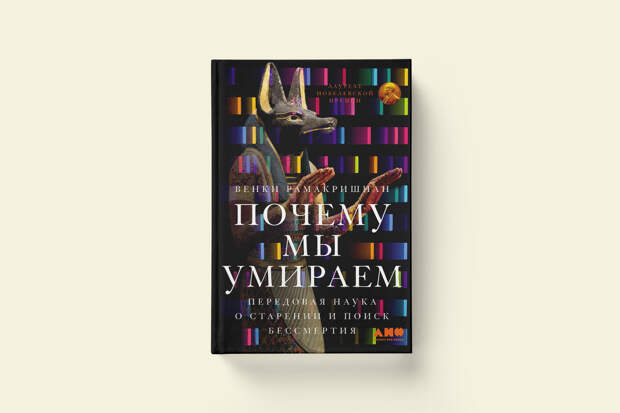
Проблема с концами хромосом
Более 100 лет назад один учёный в нью-йоркской лаборатории, разглядывая клетки, которые вырастил в чашках Петри, задавался вопросом: не открыл ли он секрет бессмертия? Алексис Каррель, французский хирург, к тому времени уже прославился как автор новаторской методики сшивания кровеносных сосудов, разорванных в результате несчастного случая или ранения, например ножевого. Его метод сшивания сосудов путём наложения миниатюрных, едва видимых швов преобразил многие области хирургии и даже в наши дни остаётся основным при пересадке органов. В 1904 г. Каррель уехал из Франции в Монреаль, а затем в Чикаго. Два года спустя, перебравшись в Нью-Йорк, он стал одним из первых исследователей в только что основанном Рокфеллеровском институте медицинских исследований (ныне Рокфеллеровский университет). Амбициозным учёным институт предлагал небывалые возможности — в том числе превосходные лаборатории и щедрое финансирование. А 34-летний Каррель определённо ставил перед собой большие цели.
Будучи хирургом, он мечтал научиться сохранять человеческие ткани живыми вне организма. В лаборатории можно выращивать культуры бактерий или дрожжей бесконечно долго. Отдельные бактерии или грибки в культуре стареют и отмирают, но культура продолжает расти, и в этом смысле она бессмертна. Однако возможно ли это в отношении клеток и тканей высших форм жизни, например человека, — ясности не было. Работая в Рокфеллеровском институте, Каррель решил провести длительную серию экспериментов и установить, можно ли бесконечно поддерживать жизнь культуры клеток той или иной ткани. Поместив в чашку Петри клетки из сердца куриного эмбриона и постоянно снабжая их питательными веществами, Каррель, казалось, подошёл к великому открытию. Культуру можно было поддерживать годами. Эти клетки, по его утверждению, были бессмертными.
Сообщение об открытии было подано с большой помпой. Если клетки ткани могут жить вечно, рассуждали журналисты, тогда это доступно и тканям в целом — и в конечном счёте нам самим. В редакционной статье, опубликованной в 1921 г. в июльском номере журнала Scientific American, говорилось следующее: «Пожалуй, недалёк тот день, когда большинство из нас сможет с полным основанием рассчитывать прожить сто лет. А если сто, то почему бы и не тысячу?»
Однако Каррель ошибался.
Поначалу результаты работы французского учёного никто не оспаривал в силу его авторитета, и с годами бессмертие клеточной культуры стало догмой. Так продолжалось до тех пор, пока 30 лет спустя молодой учёный из Вистаровского института при Университете Пенсильвании Леонард Хейфлик не захотел проверить, изменится ли клеточная культура под воздействием экстракта раковых клеток. Он решил использовать метод Карреля для выращивания клеток человеческого эмбриона. К своему разочарованию, учёный обнаружил, что не может поддерживать рост этой культуры бесконечно. Сначала Хейфлик, недавно защитивший диссертацию по медицинской микробиологии и химии, решил, что где-то допустил ошибку. Возможно, неправильно приготовил питательный бульон или плохо вымыл лабораторную посуду. Однако в следующие три года он методично исключил все вероятные технические ошибки и пришёл к выводу, что общепринятая гипотеза попросту неверна: обычные человеческие клетки в культуре не будут размножаться бесконечно. Они не бессмертны.
Хейфлик выяснил, что эти клетки могут делиться лишь ограниченное число раз, а затем этот процесс останавливается. В ходе оригинального эксперимента Хейфлик и его коллега Пол Мурхед взяли мужские клетки, которые уже делились много раз, и смешали с женскими, претерпевшими лишь несколько делений. Мужские клетки вскоре достигли предела и перестали делиться, а женские продолжили размножаться и в определённый момент стали преобладать в культуре. Каким-то образом старые клетки помнили, что они старые, даже в окружении молодых. Присутствие молодых не вызывало омоложения старых клеток, и деление у них прекращалось не из-за воздействия каких-нибудь химических веществ или вирусов, попавших в окружающую их среду. Для описания состояния, в котором клетки не могут больше делиться, Хейфлик и Мурхед предложили термин «клеточное старение» (клеточная сенесценция).
Другой молодой учёный, возможно, и занервничал бы, оспаривая столь общепринятую гипотезу, но только не Хейфлик, который не сомневался в своей правоте. Вместе с Мурхедом они описали результаты своих опытов в подробнейшей 37-страничной статье и отправили её в тот же журнал, в котором опубликовал свои первоначальные выводы Каррель. Возможно, потому, что статья противоречила господствующей догме, или просто редактор был коллегой Карреля и скорее доверял ему, а не каким-то неизвестным молодым исследователям, в журнале статью отклонили, и в итоге она была опубликована в Experimental Cell Research в 1961 г. Сейчас она считается классической работой в данной области. Максимально возможное число делений для различных видов соматических клеток сегодня называется пределом Хейфлика.
Как мог Каррель допустить такую ошибку? Одно из объяснений, предложенное самим Хейфликом, состоит в том, что французский коллега, возможно, непреднамеренно вводил в культуру новые клетки всякий раз, когда подливал питательный бульон, в котором они росли. Некоторые учёные предполагали даже, что новые клетки вносились намеренно, хотя это следовало бы рассматривать как вопиющее нарушение правил научного эксперимента или прямой обман.
У меня закрадывается подозрение, что к тому времени, как Каррель начал работать с клеточными культурами, мысли о славе и могуществе уже вскружили ему голову, и он не слишком добросовестно и критически подошёл к своим исследованиям. Такое отношение проявлялось у него и в других ситуациях. В 1935 г. он опубликовал книгу под названием «Человек неизвестный» (L’Homme, cet inconnu), в которой рекомендовал стерилизовать «бесполезных людей», а преступников и душевно больных отправлять в газовые камеры, и заодно высказался о превосходстве северных народов над южноевропейскими. В предисловии к немецкому изданию книги (1936) автор одобрительно высказывался о нацистском правительстве Адольфа Гитлера и его евгенической программе. Учитывая авторитет Карреля, нельзя исключать, что нацисты использовали его высказывания в качестве одного из оправданий своей деятельности. Недавно Рокфеллеровский университет внёс изменения в текст памятной мемориальной таблички в честь Карреля, отразив в ней и эти его взгляды.
Известный биолог Тития де Ланге, в настоящее время работающая в том же Рокфеллеровском университете, предложила более простое объяснение выводам Карреля: в соседней лаборатории велись исследования злокачественных опухолей у домашних кур, и куриные раковые клетки могли каким-то образом заразить культуры Карреля. Раковые клетки представляют собой исключение из правила Хейфлика: они не перестают размножаться после определённого числа делений, и именно из-за их бесконтрольного роста рак столь разрушителен для организма.
Почему же раковые клетки не прекращают делиться — в отличие от нормальных, которые изучал Хейфлик? И как клетка может сосчитать, сколько раз она уже делилась, и понять, что пора остановиться?
При делении клетки каждая молекула ДНК в наших хромосомах должна быть скопирована. В отличие от генома бактерий, представленного одной кольцевой молекулой ДНК, в каждой из наших 46 хромосом ДНК линейная. Каждая нить двойной спирали ДНК имеет направление, подобно стреле, — и направлены они в противоположные стороны. Сложный механизм, копирующий каждую молекулу ДНК, использует обе нити в качестве инструкций для создания противоположной, или комплементарной, нити, но считывать он умеет только в одном направлении. В начале 1970-х гг. прославленный исследователь ДНК Джеймс Уотсон и русский молекулярный биолог Алексей Оловников приблизительно в одно и то же время обнаружили, что способ, которым клетка копирует ДНК, вероятно, создаёт определённые проблемы на концах молекулы.
В один прекрасный день в Москве Оловников стоял на железнодорожной платформе, глубоко погружённый в размышления об этой проблеме. Он представил, что поезд, стоящий у перрона, — это молекула ДНК-полимеразы — фермента, копирующего ДНК, а железнодорожные пути — сама ДНК, которую предстоит копировать. Учёный понял, что поезд сможет копировать рельсовый путь, лежащий впереди, но не ту его часть, которая лежит непосредственно под ним. И поскольку поезд может двигаться лишь в одном направлении, то, даже если он начнёт движение с самого начала полотна, всегда останется часть пути под ним, которую невозможно скопировать. Из-за невозможности скопировать самый конец нити ДНК каждая новая копия нити будет чуть короче оригинала. С каждым делением клетки хромосомы будут укорачиваться, и настанет момент, когда они растеряют критически важные гены и не смогут больше делиться, достигнув таким образом предела Хейфлика. Проблема репликации конца молекулы ДНК, как её называют, могла бы объяснить — по крайней мере, в принципе, — почему клетки перестают делиться, однако в реальности ответ на этот вопрос, как мы сейчас увидим, значительно сложнее.
Свежие комментарии