
В издательстве АСТ выходит книга искусствоведа, художественного критика Ирины Кулик «Проектируемые проезды. «Сноб» публикует отрывок.
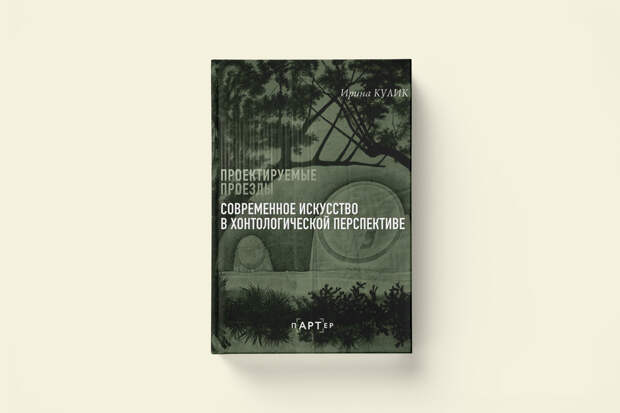
Утопия-тетрис
«Окраина — это место, где показывает себя будущее», — цитирует мэтра английской модернистской фантастики Джеймса Балларда Марк Фишер в одном из постов своего блога K-Punk, где впервые стал формироваться хонтологический взгляд на современную культуру. Марк Фишер и сам вырос в пригороде и чувствовал себя там неуютно. Пригород «никогда не казался реальным», в отличие от мегаполисов или природы и деревень, обладавших своей реальностью. Окраины же были всего лишь буферными зонами между ними. Но именно эта неукорененность в реальности, в прошлом и делает окраины пространством будущего.
В не меньшей степени, чем к английским или американским субурбиям, это относится и к окраинным районам постсоветских городов — спальным кварталам, новостройкам, выселкам, панелькам, вечным «проектируемым проездам». Эти локации не раз становились предметом исследования современных художников. Павел Отдельнов в 2013–2014 году пишет цикл «Внутреннее Дегунино», посвященный московским окраинам: бастионам микрорайонов посреди так и не ставших городом пустырей. Название не зря отсылает к Внутренней Монголии (автономный район на севере Китая) — воображение дорисовывает бескрайние степи, расстилающиеся вокруг многоэтажек-крепостей.
Ландшафты «Внутреннего Дегунина», которые трудно назвать городскими, выглядят уже привычной по кино картиной «темного будущего». Но речь идет о выродившемся в дистопию утопическом проекте. Первые спальные районы, пресловутые «хрущобы», появились в 1958 году. Оттепельная «борьба с архитектурными излишествами» была порождена стремлением построить демократическое, современное, доступное жилье для всех и каждого. Так появляются «Новые Черемушки», ставшие прототипом массового типового строительства в социалистическом мире. На самом деле новостройки не задумывались как «спальные районы» — напротив, в них проектировались не только школы и детские сады, но и фабрики и НИИ. В 1960–1970-е годы новые районы пополняются знаковыми зданиями советского «брутализма» — например, квартал научных институтов вокруг Нахимовского проспекта.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ 1
Утопический дух новых районов очаровывал многих деятелей искусства. В 1959 году Дмитрий Шостакович пишет оперетту «Москва. Черемушки», а в 1962 году по ее мотивам был снят фильм «Черемушки», прославлявший новостройки как возможность вырваться из затхлого старого мира коммуналок к новому быту — аскетичному, отчаянно молодежному, модерновому, обещающему невиданную ранее степень личной свободы и даже интернациональному. В мюзикле Герберта Раппопорта (родившегося в Вене и до эмиграции в СССР в 1936 году бывшего ассистентом Георга Пабста, с которым он работал в Германии и в Голливуде) танцуют рок-н-ролл прямо на подвешенной к крану панели строящегося дома и, возможно, пародируют снятый незадолго до того, в 1961 году, американский фильм «Вестсайдская история».
В конце 1950 – начале 1960-х годов Юрий Пименов (1903–1977), создавший канонические образы индустриального ландшафта 1920-х годов («Даешь тяжелую индустрию!») и сталинского гламура («Новая Москва»), пишет полотна, знаменующие рождение новой городской среды. «Район завтрашнего дня», «Свадьба на завтрашней улице», «Первые модницы нового района» воспевают новостройки-хрущевки, с небом, расчерченным стрелами строительных кранов, штабелями бетонных труб, по которым резво бегут на каблучках девушки в ярких развевающихся платьях в стиле диоровского new look, и деревянными мостками, проложенными по грязи на месте будущих улиц, по которым уверенно ступают молодожены.
Для Дмитрия Шостаковича, Юрия Пименова, Герберта Раппопорта оттепельные новостройки были, возможно, возвращением к авангарду, обращенному не в мифическое прошлое или вечное, как сталинский ампир, но в будущее, в то самое упомянутое в названиях полотен Пименова «завтра», которое еще не наступило, но обязательно наступит — так что можно без нытья переносить временные неудобства, хаос становления и грязь, которая на пименовских картинах выглядит знаком органической витальности строящегося нового мира. Романтический ореол, окружавший новостройки в оттепельные годы, улетучился к эпохе застоя. Типовые окраинные многоэтажки стали привычным образом отчужденности — будь то на удивление депрессивная для главной национальной новогодней сказки романтическая комедия «Ирония судьбы» или безысходно экзистенциальная драма «Отпуск в сентябре» — экранизация «Утиной охоты» Александра Вампилова. И только после перестройки появились художники, осмысляющие несбывшиеся утопии оттепели.
Одним из первых с эстетикой оттепели как советской модернистской утопией, достойной ностальгии и мифологизации, стал работать Дмитрий Гутов (р. 1960). В 1994 году он делает инсталляцию «Над черной грязью» — оммаж Юрию Пименову. Художник залил настоящей грязью фешенебельный «белый куб» одной из первых московских галерей современного искусства «Риджина» и настелил поверх нее шаткие мостки. Без малого за 40 лет мостки на «завтрашней улице» так и не сменились асфальтом, «завтра» все еще не наступило — но, как казалось в 1990-е годы, вновь забрезжило после вечного настоящего эпохи застоя. Эта черная весенняя жижа под хлипкими мостками может показаться ироничной отсылкой к знаменитому слогану парижской студенческой революции 1968 года — «Под мостовыми — пляж!». Правда, мостовые так и не появились, а «проектируемые проезды» так и остались в проекте. Пустырь с одинокими массивами микрорайонов, которые представляет во «Внутреннем Дегунино» Павел Отдельнов, так и не стал городом — но стал казаться древним городищем, загадочными руинами. Неслучайно одно из полотен серии называется «Стоунхендж».
ИЛЛЮСТРАЦИЯ 2
Еще один ностальгический образ «спальных районов» придумал Александр Бродский (р. 1955), архитектор-«бумажник», разрабатывающий в своих инсталляциях тему невозможной архитектуры. «Шарманка» (2006) напоминает гигантскую версию популярных сувениров — стеклянных шариков с рождественским снегом, сыплющимся, стоит только встряхнуть игрушку, на идиллические виды альпийских шале или нью-йоркских небоскребов, Эйфелевой башни или Кремля. Только у Александра Бродского в гигантской витрине-аквариуме снег под музыку The Beatles засыпает панельки, создавая удивительное ощущение уюта и безнадеги одновременно. Сам автор в одном интервью говорил об этой работе, как о попытке воссоздания каких-то воспоминаний и снов, связанных с жизнью в городе. «Один мой старый друг, давно покинувший Москву, увидел эту вещь на выставке, долго смотрел, потом сказал: “Помню! Пьянка кончилась. Места незнакомые, все в снегу, где метро, неизвестно, скорее всего, сильно наваляют”...», — рассказывает архитектор.
Свежие комментарии