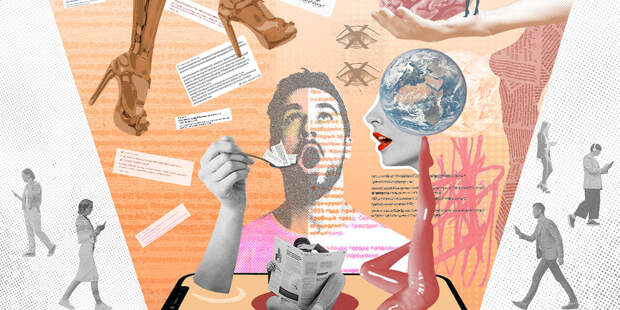
Ежедневно мы потребляем тонны информации, которая не влияет на нашу реальность, зато вызывает ярость. Дмитрий Самойлов разбирает феномен «искусственного гнева» и рассказывает, как медиа превратили людей в батарейки из «Матрицы», чем опасен скроллинг ленты и как отличить конструктивную злость от банальной зависимости.
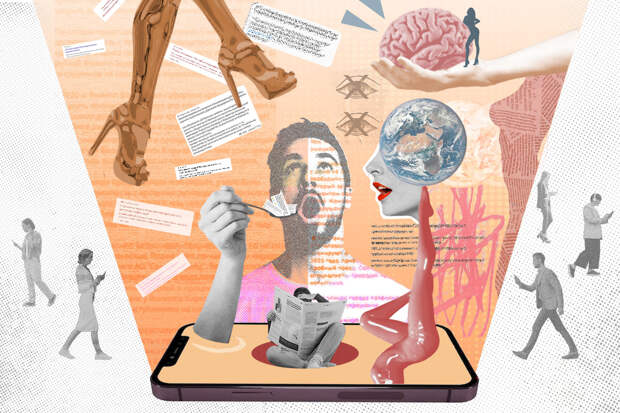
Попробуйте составить собственный короткий рейтинг из новостей этой недели, которые вызвали у вас наиболее сильное негодование. Такие новости обязательно есть. Депутат предложил что-нибудь запретить. Собачий приют закрывают, потому что чиновник строит дачу. Пенсионерки массово обращаются в суды, чтобы опротестовать сделки с вторичной недвижимостью. Мать-наркоманка избила сына. Или того хуже.
Такие новости мы читаем ежедневно, и ежедневно они вызывают у нас негодование. Часто день с этого и начинается. Да, мы жалуемся на пасмурную погоду, на отсутствие солнца по шесть месяцев в году, на слякоть и даже на мороз. Но плохо нам не от этого, плохо нам от того, что мы читаем. Это наша ежедневная порция гнева — или, как это теперь называют, outrage porn.
Мы регулярно сталкиваемся с новостями, которые не несут в себе никакого содержания, события, о которых идёт речь в этих новостях, не влияют на окружающую нас действительность. Но все эти сообщения выполняют ту же функцию, что и порно — они возбуждают нас. Вернее, возбуждают в нас гнев. И чем больше гнева мы генерируем под влиянием этих новостей, тем продуктивнее работает медийная машина по их производству.
Предсказание о Матрице оказалось правдивым только наполовину. В том смысле, что Матрица питается нашей энергией, но вот отдохнуть в капсулах у нас не получается.
Может быть, вы слышали о таком явлении, как “гунинг”. Этот термин появился во времена ковидной пандемии, когда люди вынужденным образом оказывались запертыми дома. Среди мужчин возникла целая субкультура — окружать себя мониторами и смотреть порно сутками, включая ролик за роликом, углубляясь в дебри порносайтов, открывая новые перверсии и потребляя гигабайты контента в высоком разрешении.
Казалось бы — а чего особенного? Отвратительно, конечно, но не то чтобы неожиданно. Сложность в том, что в ситуации потокового потребления контента не видео служит продуктом удовлетворения потребности зрителя, а зритель становится продуктом, потребляемым платформой.
Мы обнаружили себя в «экономике внимания», теперь мы нужны поставщикам информации больше, чем информация нужна нам. Вы слышали выражение «люди — это новая нефть»? Обычно его употребляют в том смысле, что физические исчерпаемые ресурсы в постиндустриальную эпоху актуальны в меньшей степени, чем интеллектуальная мощь. Кроме того, с людей можно собирать налоги, что, вероятно, может быть прибыльнее, чем просто добывать, перерабатывать и продавать углеводороды. Но оказывается, люди буквально стали сырьём для медийной машины, топливом, на котором она едет всё быстрее. Несётся, вероятно, в ад, но дорога эта может быть бесконечно длинной.
Людей заставляют испытывать раздражение ради клика, становиться зависимыми от плохих и при этом пустых новостей. Что человек получает взамен? Изношенную психику, неврозы, депрессию и желание прочесть ещё больше информационных сообщений, которые вызовут его гнев.
Но ведь гнев бывает разный. Мы же знаем, что он бывает праведным и даже конструктивным, что бывает тот гнев, который движет людьми, когда они меняют что-то в мире. И, надо признаться, в нашем мире для этого гнева поводов тоже хватает. Но разве мы помним о них? Нет, это утомительно, это требует сложной психической деятельности, самоорганизации, планирования, конкретных действий. А зачем? У нас есть канализация, которая вместо люка имеет экран, и вот туда мы сливаем свою ежедневную дозу искусственно выращенного раздражения.
Мы сами с удовольствием садимся на эти дофаминово-кортизольные качели, и наше ежедневное путешествие на них строится по стандартному маршруту. Мы читаем новость, которая вызывает наш гнев. Это первая доза нашего outrage porn. Дальше мы испытываем некоторый диссонанс, потому что была получена сильная эмоция, при этом мир вокруг никак не изменился. Мы ищем компенсации и продолжаем листать ленту в поисках чего-то положительного. Видео с котами или со смешно падающим толстым человеком, на худой конец, новость о том, что в зоопарке родилась очередная капибара, дают нам ощущение баланса. Мы живы, значит, всё неплохо, мир не рухнул, вот и в зоопарке капибара родилась. Это иллюзия гармонии. Но потом мы неизбежно натыкаемся на сообщение вида — «запретят/ограничат/закроют/замедлят/заблокируют». И вот мы снова кормим индустрию плохих новостей своим гневом. И снова часами смотрим в экран, пока не увидим что-нибудь хорошее. А потом плохое. Причём, обратите внимание, речь уже давно не идёт ни о каких fake news. Все новости теперь настоящие, просто сообщения о них не значат ничего, поменялось направление информационного потока. Теперь не мы потребляем новости, а новости постепенно съедают нас.
Заголовки без контекста, навешанные в первой же строчке моральные ярлыки, вырванные цитаты, шокирующие изображения — первые признаки работы алгоритма, работающего на нашем внимании.
И вроде бы мы помним о цифровой гигиене — проверять источники, ограничить время на потребление новостей, выстроить свою ленту нетравмирующим образом.
Теперь кажется, нам нужно ещё несколько правил.
Во-первых, можно оценить свой собственный гнев. Ведь он должен быть нашей эмоцией, а не чьим-то топливом. Если он побуждает к каким-то действиям, помимо матерной ругани, нужно подумать — может быть, причина этой эмоции действительно важна и требует реакции.
Во-вторых, можно одну неделю вести учёт гнева. Сколько раз за неделю вы его испытывали, читая новости, и что в конце недели действительно изменилось в окружающем вас мире.
В-третьих, нужно поймать себя на следовании по петле потребления контента и попытаться остановиться.
Медийная машина, конечно, нуждается в топливе, но именно вам необязательно выполнять его функцию.
Свежие комментарии