
Руководитель проекта Shalamov.ru и главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории Сергей Соловьев — о том, какую революцию Шаламов совершил в литературе, чем он отличается от Фуко и как помогает противостоять «цифровому концлагерю» и тотальному «Диснейленду».

Шаламова обычно вспоминают как автора лагерной прозы, но редко говорят о нем как о новаторе, создавшем новый литературный язык. Давайте исправим это и определим, в чем это новаторство состояло.
Среди исследователей тот факт, что он создал новый литературный язык, уже является общепризнанным. И именно это приводит многих филологов в экстаз. Кстати, большинство исследователей прозаического языка Шаламова до сих пор — западные. В чем состоит его новаторство? Шаламов сам написал об этом в эссе «О прозе», в котором манифестирует окончательную смерть романа. Он говорил, что никакая сила в мире не воскресит эту литературную форму, потому что доверие к беллетристике подорвано. Поэтому в прозе, по мнению Шаламова, необходимо стереть границу между документом и художественностью. Ведь сегодняшний читатель убеждается только документальными свидетельствами.
Чтобы читатель почувствовал эту документальность, Шаламов прибегает к «эффекту присутствия» и «сбою восприятия» — особым литературным приемам. Они работают достаточно сложно и почти неуловимо. Например, в двух рассказах из цикла «Левый берег» фигурирует практически один и тот же персонаж — заведующий хирургическим отделением лагерной больницы. В рассказе «Прокуратор Иудеи» (кстати, это отсылка на одноименный рассказ Анатоля Франса) он выведен под фамилией Кубанцев и показан как растерянный человек, не сумевший помочь больным. И в том же цикле, в рассказе «Потомок декабриста», снова действует начальник хирургического отделения, только уже по фамилии Рубанцев. И он, наоборот, очень ответственный, он не боится начальства и не терпит подхалимаж. Читатель начинает путаться: Кубанцев и Рубанцев — это один человек или нет?
Шаламов делает это намеренно. Ведь лагерь — это зачеловеческий мир, в нем один человек может представать в разных обличиях, а хронология сбивается, и никакой почвы под ногами нет. Это и есть «сбой восприятия». А еще повествование в некоторых рассказах Шаламова идет одновременно и от первого, и от третьего лица. Это выбивает из читателя обыденное восприятие литературы.
Есть у Шаламова и множество других приемов. Например, обыгрывание образцов классики. Рассказ «На представку», посвященный карточной игре в лагере, начинается почти с той же фразы, с которой начинается «Пиковая дама»: «Играли в карты у коновода Наумова». Только у Пушкина был конногвардеец и Нарумов. Зачем это делается? А чтобы читатель, минимально знакомый с классической культурой, впитавший ее образцы, был сбит с толку и понял, что эти образцы в лагере не работают, приобретая искаженную, извращенную форму.
Получается, обычный читатель, не филолог, может всех этих изощренных ходов Шаламова даже не замечать.
А откуда тогда берется ощущение беспокойства, ненормальности, чудовищности при погружении в описанный им мир?
Намеки Шаламова работают на наше подсознание. И у нас создается впечатление полной реальности происходящего в его рассказах, нам кажется, что это натуралистическая проза. Революция Шаламова в литературе — это незамеченная революция именно потому, что она очень успешна: мы не успеваем понять, как он проделал сложнейшую литературную работу, как он проник в наше сознание, пока читаем его. И прямых наследников у этой революционной литературы нет. Чтобы так написать, нужно прожить запредельный, нечеловеческий опыт.
Лагерь для Шаламова — не главная тема, а один из возможных фонов для описания гораздо более широкого опыта. Я имею в виду опыт погружения субъекта в предельно обостренную экзистенциальную ситуацию, за рамки человеческого. Какой путь сохранения субъектности в таких условиях он предлагает?
Это путь и физического, и морального сопротивления. Шаламов, во-первых, с ранних лет интересовался и восхищался примером народнической революционной традиции. А в 1920-х состоял в левой антисталинской оппозиции. То есть к моменту попадания на Колыму он был подготовлен к сопротивлению, хотя, конечно, не мог быть полностью подготовлен к тому, что происходило во время большого террора. Он не доносил, отказывался от любой начальственной работы, потому что любой начальник самим фактом своего возвышения над остальными приговаривает кого-то к смерти, к непосильному труду. Шаламов принципиально отказывался становиться шестеренкой в механизме, выдавливающем из людей все человеческое.
А еще он писал, что ему помогали выжить стихи. Эти слова — не пафос: как только Шаламов приходил в себя в больницах, он начинал делиться с окружающими его людьми всем тем, что впитал из высокой культуры. В первую очередь — стихами, особенно стихами Пастернака.


Бодрийяр в книге «Общество потребления: его мифы и структуры» еще в 1970 году утверждал, что контроль над сознанием и волей масс осуществляется через навязывание объектов желания. Человек, стремящийся к потреблению символической ценности вещей и развлечений, теряет идентичность и внутренний стержень. Может ли опыт Шаламова помочь преодолеть эту проблему?
Все-таки потоки информационного отупляющего шума и гонка потребительства — не то же самое, что двенадцатичасовая смена тяжелого физического труда при 50 градусах мороза, не регулярные избиения и не голод. Отождествлять эти вещи, конечно, нельзя. Но прививка высокой культуры, к которой Шаламов имеет непосредственное отношение, — разумеется, противоядие от любой информационной интоксикации, любого навязывания воли извне. Потому что литература (особенно поэзия) развивает фантазию и критическое мышление, это одна из ее прямых функций. Шаламов чрезвычайно критически воспринимал окружающую действительность и предостерегал читателя от безусловного доверия среде. Пожалуй, он — лучший союзник в борьбе с обществом потребления, массмедиа и Диснейлендом за право иметь собственные желания и собственные представления о жизни.
Западные философы второй половины ХХ века как-то опирались на Шаламова, когда осмысляли глобальные культурные и политические сдвиги после Второй мировой?
Ален Бадью, один из самых известных современных французских философов, в книге «Метаполитика» посвятил целую главу Шаламову и Солженицыну. Он утверждает в ней, что новую политическую этику можно основывать на текстах Шаламова, при этом подчеркивает, что в рассказах Варлама Тихоновича не подводятся какие-либо политические итоги сталинской эпохи. Бадью говорит о формуле совести, выработанной Шаламовым, которая необходима для выстраивания новой этики к концу ХХ века. Шаламов в принципе сегодня становится частью интеллектуальной культуры Европы. Его перевели на все основные мировые языки. И это не искусственно раздуваемый процесс, не чья-то заинтересованность, как в случае с Солженицыным, чей «Архипелаг ГУЛАГ» помогало распространять ЦРУ, потому что «Архипелаг» был оружием холодной войны. С Шаламовым все иначе. Искренняя потребность в осмыслении его текстов действительно существует в сегодняшней западной культуре, и она его мало-помалу осваивает.
А кто, по-вашему, дал более интересные ответы на вопросы о человеке по итогам ХХ века — Шаламов или условные постструктуралисты, деконструктивисты и прочие -исты?
Мне кажется, они никаких ответов не дали. Постструктуралисты дали миру только форму эскапизма, закрытия от реальности, размывания в смыслах. Они — порождение исторического поражения левых в несостоявшейся революции 1968 года. Один из томов Фуко называется «Забота о себе» — вот в эту заботу о себе и уходят постструктуралисты. А Шаламов никуда от действительности не бежит. Он предлагает нам ее поиск. И у него как раз мы можем найти ответы на вызовы ХХ века, в том числе — пути формирования новой этики и способы сопротивления человека в отношениях с государством.
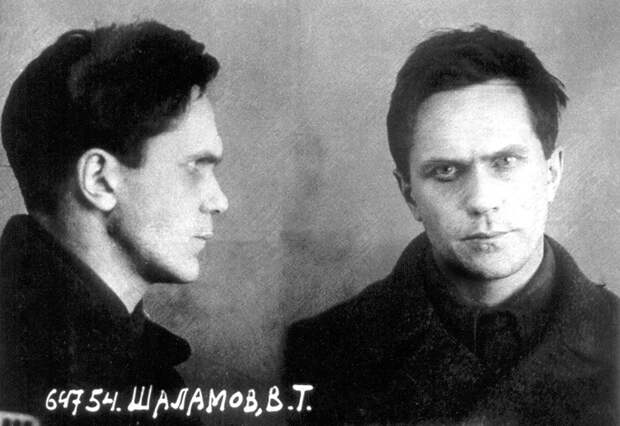
Вам не кажется, что в поэзии Шаламов все-таки был эпигоном Пастернака, и его стихи не представляют особого интереса в отрыве от его личности?
Так может казаться, но это не так. Я тоже долгое время думал, что его стихи значительно слабее прозы, что все эти его четырехстопные ямбы — далеко не первой свежести. Но это не пастернаковская традиция. Шаламов больше наследует Андрею Белому. И как раз та форма ямба, которой он пользуется, в русской поэзии почти не встречается. Он и здесь стремится к оригинальности, к новаторству. Некоторые стихи он писал только для того, чтобы ввести новую рифму, которая не была использована в русской литературе больше никем. Надо понимать, что стихи Шаламова неизбежно должны были оказаться — и оказались — в тени его ошеломительной прозы. Этим и объясняется та иллюзия «слабости» его поэзии, которая может возникнуть у читателя, познакомившегося с его стихами после знакомства с прозой и биографией.
Шаламов, несмотря на огромное желание обрести своего читателя, запрещал публиковать «Колымские рассказы» за рубежом. Он делал так, чтобы не помогать одной из сторон в политической борьбе?
Шаламов предпринял одну попытку опубликоваться на Западе, когда убедился, что «Колымские рассказы» ни в каком виде в СССР опубликованы быть не могут. Он дважды пробовал сделать это в издательстве «Советский писатель», но ничего не вышло. Так, он пытался опубликовать свои «Очерки блатного мира», в которых рассказывал о тюремной жизни с позиции просветителя, клеймящего эту растлевающую субкультуру. На «Очерки» он получил издевательский отзыв от редакции «Советского писателя»: ему ответили, что это произведение не представляет интереса для широкой публики, а напечатано может быть разве что в ведомственном журнале МВД.
Пройдя через такое унижение, он стал смотреть в сторону Запада. Шаламов близко общался с Надеждой Яковлевной Мандельштам и ее кругом, через нее познакомился с американским филологом Кларенсом Брауном. Браун вывез за границу значительную часть архива Мандельштама. И Шаламов с его помощью решил опубликовать за границей «Колымские рассказы», но для него было важно, чтобы они вышли в форме книги и именно в той последовательности, в которой расположены автором. Ведь он писал не сборники рассказов, а циклы, а расположение текстов при этом имеет принципиальное значение. Браун отправил эти рассказы писателю-эмигранту Роману Гулю, который начал вдруг публиковать их в своем журнале поштучно, да еще и с редакторской правкой.
И это убило доверие Шаламова к западным изданиям?
Конечно. Его просто использовали в своих целях, сделали орудием политической войны. А самое главное — не удалось найти читателя, который адекватно бы понял его замысел. Можно себе представить, в какой ярости он был… Разошелся с кругом Надежды Яковлевны, назвал их общение с ним «шантажом почти классического образца». К тому же Надежда Яковлевна стала высоко ставить Солженицына, а Шаламов считал его к тому моменту литературным «дельцом, недостойным писать о Колыме». После этого он отказался от идеи публиковаться за границей.
Почему для либеральной интеллигенции ближе Солженицын, вечный оппонент Шаламова? Не потому ли, что он проще как личность и слабее как писатель?
На мой взгляд, конечно, проще и слабее. Но среди интеллигенции любых взглядов встречаются самые разные оценки Шаламова и Солженицына. Я думаю, часть либеральной интеллигенции отталкивают левые взгляды Шаламова, он ведь до конца не отказывался от своих убеждений. Шаламов с симпатией относился к «новым левым», читал в Ленинской библиотеке прессу и критические отзывы, которые могли бы помочь прояснить происходящее в западной политической повестке. О взглядах Маркузе однажды сказал: «Великой пробы анархизм».
А после смерти Че Гевары он даже написал стихотворение в его честь! Размышляя о его судьбе, Шаламов говорил: «Как ни хорош роман “Сто лет одиночества”, он просто ничто, ничто по сравнению с биографией Че Гевары, по сравнению с его последним письмом». Для Солженицына подобные вещи, разумеется, были неприемлемы. Вот и часть либеральной интеллигенции — подчеркиваю, только часть — отталкивают такие симпатии Варлама Тихоновича. Солженицын для них понятнее.

Некоторые историки левых взглядов относятся к Шаламову отнюдь не как к «своему», критикуют за неправдивость описываемого им лагерного опыта. Насколько адекватна оценка Шаламова, данная Климом Жуковым и Реми Майснером в известном видеоролике?
С моей точки зрения, сталинисты — как минимум, не совсем левые. Среди названных вами лиц нет историков, которые работают с этой темой в архивах. Клим Жуков — это специалист по средневековому оружию, если не ошибаюсь, а с источниками ХХ века он не работает. Есть среди таких критиков Варлама Тихоновича некто Егор Иванов, он распространил мнение, что расстрельная тюрьма на Колыме Серпантинка — вымысел Шаламова и ряда других мемуаристов. Этот человек аргументирует свою позицию тем, что Магаданский музей в ответ на его запрос не предоставил доказательств ее существования. Но он совершенно упускает тот факт, что лагерные архивы не рассекречены.
Лагерный архив с информацией о расстрелах и расположении тюрем — на секретном хранении. Утверждать, что раз в Магаданском музее нет этой информации, то никакой Серпантинки и не было, — это проявление вопиющей безграмотности. Между тем существуют и неопубликованные мемуары бывшего лагерника по фамилии Чернов, хранящиеся в Магаданском архиве, который принимал участие в разрушении останков этой тюрьмы. Да что там — в целом ряде воспоминаний людей, которые никогда друг с другом не общались, проходит информация о Серпантинке. В том числе ее узников. Объявлять их всех фальсификаторами и лжецами?
Давайте приведу в пример конкретные тексты Шаламова, интересные с документальной точки зрения. Например, рассказ «Заговор юристов» полностью подтверждается документами, хранящимися в Российской государственной архиве социально-политической истории. Совпадает все, вплоть до фамилий действующих лиц. В рассказе «Надгробное слово» упомянут ряд фамилий людей, дела на которых я лично изучал в Информационном центре МВД Магаданской области. Возьмем другой рассказ — «Леша Чеканов, или Однодельцы на Колыме». Учетную карточку на Алексея Чеканова я нашел также в одном из колымских архивов. То есть огромная часть описанного Шаламовым подтверждается документально. А диванные сталинисты в YouTube зачем-то это отрицают.
А не странно ли в принципе критиковать писателя за то, что он может и отступить от документальности, если этого требует замысел?
Конечно, странно. Искать в литературном произведении дословное отражение документов — бессмысленно. Мы же не пытаемся изучать войну 1812 года по «Войне и миру», хотя Толстой изучал документы, прежде чем начать писать. Он нашел даже сведения о погодных условиях в дни сражений при Бородино и Аустерлице. В шаламовских рассказах без проблем можно найти и художественные обобщения, допущения. Но в них описываются реальные события с реальными людьми, либо то, что могло с этими лицами произойти в тех условиях. При этом Шаламов никогда не выдумывал что-то «этакое», чтобы как-либо насолить советской власти. Он вообще отказывался участвовать в политических войнах, мы это уже обсудили. Кто всего этого не понимает — тот вообще ничего не понимает в художественной литературе.
Как вам сериал «Завещание Ленина» (2007) и фильм «Сентенция» (2020), в которых показан образ Шаламова? Можно ли назвать это полноценными попытками рефлексии, а не спекуляцией на исторической болевой точке?
Артхаусный фильм «Сентенция» — безусловно, спекуляция на образе. К биографии Шаламова это кино имеет очень опосредованное отношение. Что касается «Завещания Ленина» — там есть удачные моменты, но хлесткая, краткая, как удар, поэтика шаламовской прозы там и близко не отражена. А еще почему-то режиссер снимал Колыму не на Колыме, а где-то на русском Севере. В кадр то и дело попадают ели и сосны. А на Колыме их нет, там только лиственницы и стланик. Но благодаря этому сериалу многие прочитали Шаламова, открыли его для себя, и это большой плюс «Завещанию Ленина». А вот название для сериала выбрано не очень. Пока его смотришь, начинаешь думать, что завещание Ленина — это и есть лагеря. Хотя Шаламов считал совершенно не так, он в 1929-м распространял так называемое политическое завещание Ленина, письмо к съезду, в котором тот требовал снять Сталина с поста генсека.
Шаламов – человек 20-х годов, бурной эпохи, мобилизирующей все человеческие ресурсы на строительство нового государства и культуры, новой утопии. Это время чем-то похоже на наши 20-е – с нашим патриотическим подъемом и общим пафосом построения обновленной независимой державы. А какова вероятность, что этот общественный подъем приведет нас к тому же, к чему он привел поколение Шаламова в 1930-1950-х?
Не думаю, что можно провести аналогии между 1920-ми и современностью. Те годы — это послереволюционная эпоха «штурма неба», как выражался сам Варлам Тихонович. Но Шаламов писал о том, что каждый расстрел 1937 года может быть повторен. Я не говорю о какой-либо политической ситуации, о параллелях между эпохами. Я лишь подчеркиваю вслед за ним, что возможность расчеловечивания существует всегда. Она от нас на расстоянии вытянутой руки. Шаламов нам показывает, что мы никогда от нее не застрахованы. И это ощущение очень полезно в том числе и для развития критического отношения к реальности.
А еще важно понимать, что представление о Шаламове как об авторе исключительно лагерной прозы — очень узкое. Вы совершенно верно отметили в начале нашего разговора, что он пишет о другом — об экзистенциальной катастрофе. Это катастрофа и нацистских лагерей, и ядерных бомбардировок, и геноцидов, которые происходили в странах “третьего мира” даже в 90-х, то есть совсем недавно. Например, в Руанде. Так вот, Шаламов говорит нам о том, что в определенных условиях, которые отнюдь не уникальны и не привязаны к определенной эпохе, мы можем оказаться расчеловечены. «Колымские рассказы» — это не только осуждение сталинских лагерей, а глобальное сообщение об абсолютной катастрофе, поджидающей нас везде. Стоит лишь поддаться.
Шаламов не верил в гуманизм и в какую-либо поучительную миссию литературы. Но для чего же он продолжал писать? Во что он верил до последнего?
Он сам лучше всех объяснил эту свою противоречивость. Процитирую фразу из его записной книжки: «Я пишу не для того, чтобы описанное не повторилось. Так не бывает, да и опыт наш не нужен никому. Я пишу для того, чтобы люди знали, что пишутся такие рассказы, и сами решились на какой-нибудь достойный поступок — не в смысле рассказа, а в чем угодно, в каком-то маленьком плюсе».
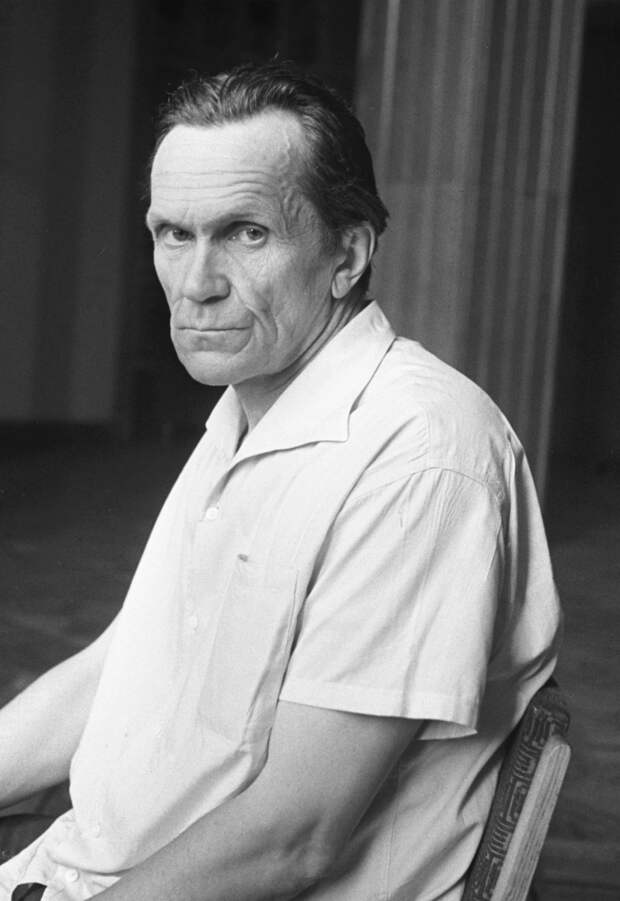
Можно ли сказать, что в этом заключается его своеобразный гуманизм, хоть он и отрицал это слово?
Да, именно так. Шаламов вряд ли принял бы определение «гуманист», особенно в высокопарном смысле. Но, отказываясь от громких слов, он делал нечто куда большее: напоминал нам, что достоинство человека проявляется в простых, незначительных действиях, которые создают это «маленькое чудо». Его рассказы говорят об ужасе, но в то же время позволяют понять, что даже в самых нечеловеческих условиях есть место для выбора. Пусть крошечного, пусть незначительного — но своего.
Существует мнение, что литература Шаламова как раз и становится противоядием от расчеловечивания. Согласны ли вы с этим?
Абсолютно согласен. Его проза не предназначена для утешения, но она заставляет читателя почувствовать ответственность за то, чтобы остаться человеком. Это литература, которая требует усилия. Чтение Шаламова — это вызов. Приняв его, ты уже не можешь смотреть на мир так, как раньше. И в этом смысле Шаламов и его рассказы работают как прививка от равнодушия и бездействия.
Свежие комментарии