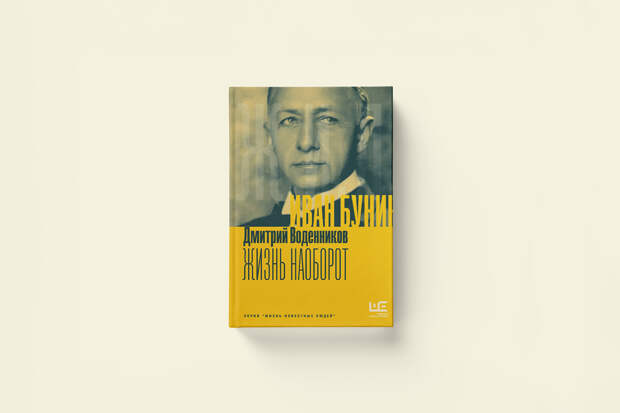
«Сноб» публикует главу из развернутого биографического эссе об Иване Бунине, написанного в обратном порядке — от смерти до первого младенческого крика. Книга вышла в серии «ЖИЛ» в «Редакции Елены Шубиной».
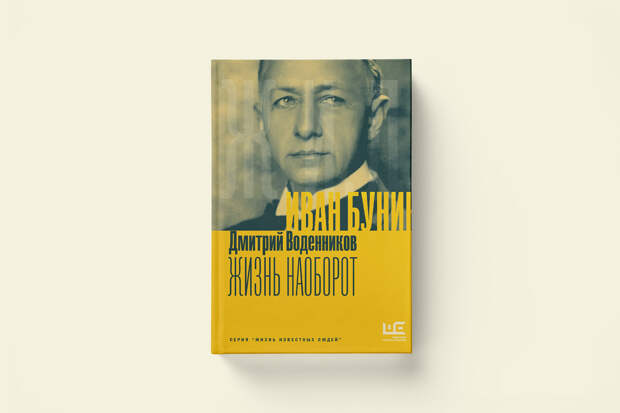
Иногда смотришь на людей, и они тебе кажутся прозрачными, и ты как будто видишь, что там у них внутри, в душе, плещет. Как у той ведьмы Гоголя, которая затесалась в хор ночных прозрачных утопленниц, но что-то у нее внутри чернеет. Может, эта загадка смерти и была тем, что так мучило Бунина, — и поэтому он тоже все время выглядывал в человеке: что же там конкретно темнеет в нем?
Мы тоже так делаем, и это часто несправедливо — но такая уж у нас всех мизантропия. Но Бунин тут, конечно, превзошел всех нас, вместе взятых, даже стал интернет-мемом. («Я ничего не понимаю в кранах, — говорю я продавцу в отделе сантехники, — мне тут написали, что я должен купить, вы мне поможете?» Где я, а где краны? «А то я пишу книгу про Бунина, а у меня как раз кран потек», — продолжаю жаловаться я. «А, это тот, который всех поливал?» — вдруг радуется продавец. Где кран, а где Бунин?)
Мы все помним, что он говорил.
О Куприне (хотя вроде дружили):
Перечитываю Куприна. Какая пошлая легкость рассказа, какой дешевый бойкий язык, какой дурной и совершенно не самостоятельный тон.
Бунин сам признавал неровность их взаимоотношений — правда, перевел тут фокус («фокус-покус») с себя на товарища:
Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетий: то был со мной весел, нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от тебя в глазах рябит, одно ценю: ты пишешь отличным языком, а кроме того — чудесно верхом ездишь...»
Вера Николаевна, тоже переводя стрелки на Куприна и привлекая для сравнения авторитет самого Достоевского, писала:
...Отношения Куприна к Бунину были очень непростые, тут понадобился сам Достоевский, чтобы все понять. Диапазон был большой: от большой нежности к раздраженной ненависти, хотя в Париже все было смягчено.
Но ужалить (укусить) Бунин мог, как та змея, которой он сам так страшился.
Любивший иногда хваcтаться своим дворянским происхождением, как-то сострил за столом, когда разговор зашел о родовитости, на реплику Куприна, что и у того мать была княжна Кулунчакова: «Да, но ты, Александр Иванович, дворянин по матушке».
Куприн побледнел, взял со стола серебряную чайную ложку и стал сжимать ее в руках до тех пор, пока она не превратилась в бесформенный комок. После чего молча швырнул все, что осталось от ложки, в противоположный угол комнаты.
Забыть неудачную остроту Куприн Бунину уже не смог.
Известная пародия на Бунина «Пироги с груздями» у Куприна начинается так:
Сижу я у окна, задумчиво жую мочалку, и в дворянских глазах моих светится красивая печаль. Ночь. Ноги мои окутаны дорогим английским пледом. Папироска кротко дымится на подоконнике. Кто знает, может быть, тысячу лет тому назад так же сидел и грезил и жевал мочалку другой, неведомый мне поэт?
А заканчивается такими двумя абзацами (ну а что? И правда, смешно, там даже условная «резеда», которую так тонко мог уловить в воздухе Бунин, мелькнет, только уже под видом других цветов):
Я возвращаюсь в свою печальную комнату. Из сада пахнет дягилем и царскими петушками. Меланхолично курлыкает на пряслах за овинами бессонная потутайка. Отчего у меня болит живот? Кто знает? Тихая тайная жалость веет на меня незримым крылом.
Все в мире непонятно, все таинственно. Скучный, вялый и расслабленный, как прошлогодняя муха, подхожу я к двери, открываю ее и кричу в зловещую темноту:
— Марфа, иди сюда!.. Натри меня на ночь бобковой мазью...
Счет «один-один», как сказал бы какой-нибудь футбольный болельщик.
Но и всех остальных Бунин даже не пробует, не пытается пожалеть.
О «Петербурге» Белого Бунин вроде бы говорил: «Ничтожно, претенциозно и гадко».
Судя по записям в дневнике, Бунин вообще не переносил Белого. Есть у него, в частности, и такое:
Ходил к Шестовым. Дождь, пустые темные рабочие кварталы. Он говорит, что Белый ненавидит большевиков, только боится, как и Ремизов, стать эмигрантом, отрезать себе путь назад в Россию. «Жизнь в России, — говорит Белый, — дикий кошмар. Если собрались 5–6 человек родных, близких, страшно все осторожны, — всегда может оказаться предателем кто-нибудь». А на лекциях этот мерзавец говорит, что «все-таки» («несмотря на разрушение материальной культуры») из России воссияет на весь мир несказанный свет.
Не щадит и Алексея Толстого, хотя сперва относился к нему неплохо:
Кончил «Восемнадцатый год» А. Толстого. Перечитал? Подлая и почти сплошь лубочная книжка. Написал бы лучше, как он сам провел 1918 год! В каких «вертепах белогвардейских»! Как говорил, что сапоги будет целовать у царя, если восстановится монархия, и глаза прокалывать ржавым пером большевикам... Я-то хорошо помню, как проводил он этот год, — с лета этого года жили вместе в Одессе. А клуб Зейдемана, где он был старшиной, — игорный притон и притон вообще всяких подлостей!
Так Бунин говорит о второй части трилогии «Хождение по мукам». Хотя раньше он и отмечал у Толстого редкую талантливость, и даже называл первоклассным работником*, но простить тому возвращение в 1923 году на родину и популярность в Советском Союзе, по-видимому, не смог.
Константин Симонов, встречавшийся с Буниным в Париже, потом запишет:
После предварительного злого пассажа в адрес Толстого Бунин много и долго говорил о нем. И за этими воспоминаниями чувствовалось все вместе: и давняя любовь, и нежность к Толстому, и ревность, зависть к иначе и счастливей сложившейся судьбе, и отстаивание правильности своего собственного пути.
И все-таки, справедливости ради, придется признать: когда в 1935 году Бунин прочтет начальные главы «Петра I», то отправит записку в редакцию «Известий» (тут опять много вопросов: в «Известия»? Эмигрант Бунин? Советскому теперь писателю Алексею Толстому? А не опасно ли было так делать?): «Алешка, хоть ты и сволочь, мать твою, но талантливый писатель. Продолжай в том же духе».
Впрочем, доставалось от злого языка Бунина не только современникам.
В 1944 году Бунин перечитывает Гоголя и пишет о нем в дневниках резкое:
Нестерпимое «плетение словес», бесконечные периоды. «Портрет» нечто соверш[енно] мертвое, головное. Начало «Носа» патологически гадко — нос в горячем хлебе!
Бедный Гоголь прочел сразу же где-нибудь на небесах (рукописи-то не горят), что Бунин счел возможным сказать про его незавершенный роман «Рим»: «Задыхаешься от литературности и напыщенности». Нос Гоголя покраснел от досады где-то в райских кущах и даже чихнул.
Николай Васильевич, дорогой, вы же хороший, не зовите под ваше райское древо Федора Михайловича, не давайте ему запретный плод бунинских дневниковых записей. А то Федор Михайлович проиграется потом в небесных казино в пух и прах (ангельский пух и бывший земной прах) — от послесмертной досады.
Понемножку читал эти дни «Село Степанчиково». Чудовищно! Уже пятьдесят страниц — и ни на йоту, все долбит одно и то же!..
И там же:
Пошлейшая болтовня, лубочная в своей литературности!
Но вот, кажется, невозможное: ну не мог Бунин не ценить Чехова, они же так близки серебристой (я сначала написал «замшевой», но стер — замша не из нитей, а они мне потребуются через шесть слов) изнанкой своей прозы, она из похожих нитей плетена, что-то есть в их словах родственное, к тому же в молодости Бунин Чехова любил и ставил очень высоко. Они ведь почти дружили, переписывались, периодически встречались, Бунин даже писал про Чехова книгу (правда, не дописал). Однако:
Сколько чепухи, нелепых фамилий сколько записано — и вовсе не смешных и не типичных — и какие всё сюжеты! Всё выкапывал человеческие мерзости! Противная эта склонность у него, несомненно, была.
(Вот оно, то, что чернеет, темнеет — в том числе и внутри Чехова.)
Не очень нравится ему и «Дядя Ваня». «В общем, плохо. Читателю на трагедию этого дяди, в сущности, наплевать». А пьесу «Вишневый сад» Бунин и вовсе называет самым плохим чеховским произведением.
Хотя лучшее про «море было большое» подарил нам в память о Чехове именно Бунин.
Я поблагодарил за приглашение, и мы молча прошли всю набережную и сели в сквере на скамью.
— Любите вы море? — сказал я.
— Да, — ответил он. — Только уж очень оно пустынно.
— Это-то и хорошо, — сказал я.
— Не знаю, — ответил он, глядя куда-то вдаль сквозь стекла пенснэ и, очевидно, думая о чем-то своем. — По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом... Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку...
И, по своей манере, помолчал и без видимой связи прибавил:
— Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое». И только. По-моему, чудесно.
Ну а про декадентов-современников лучше и не говорить. Их в дневниках Бунин сильно недолюбливал, хотя в реальной жизни общался и как будто опять-таки дружил. (Удивительная эта способность — разводить свои «дневную» и «ночную», дневниковую, стороны.)
Так, например, о Зинаиде Гиппиус:
Перечитываю стихи Гиппиус. Насколько она умнее (хотя она, конечно, по-настоящему не умна и вся изломана) и пристойнее прочих — «новых поэтов». Но какая мертвяжина, как все эти мысли и чувства мертвы, вбиты в размер!
А попозже и совсем припечатал:
Дочитал Гиппиус. Необыкновенно противная душонка, ни одного живого слова, мертво вбиты в тупые вирши разные выдумки. Поэтической натуры в ней ни на йоту.
Еще называл ее стихи «электрическими».
(Однако удивительная вещь. Мы уже вспомнили, что Бунин не терпел, ненавидел похороны. Даже родителей в последний путь не проводил. Но Зинаиде Николаевне была оказана особая честь: когда Зинаида Гиппиус в 1945 году умерла, Бунин не отходил от ее гроба ни на минуту, все время его с ней прощания.)
И только Льву Николаевичу в этом «пантеоне» дневниковых записей выпала неразменная золотая монета удачи — его Бунин почти не ругал.
В том-то и дело, что никому, может быть, во всей всемирной литературе не дано было чувствовать с такой остротой всякую плоть мира прежде всего потому, что никому не дано было в такой мере и другое: такая острота чувства обреченности, тленности всей плоти мира, — острота, с которой он был рожден и прожил всю жизнь. Chair a canon, «мясо», обреченное в военное время пушкам, а во все времена и века — смерти!
Так вот опять этот гладкий камешек, что, оказывается, он в «своем» (и «нашем») Толстом любил. Чувствовал через текст кожей, рукой своей всей, чистой, сильной и маленькой, чувствовал. Никак не хотел отпустить.
В одном из своих интервью он даже сказал: «Для меня был богом Л.Н. Толстой».
(Ну, богом не богом, но немного укусил и Толстого. Последняя часть «Карениной» Бунину не нравилась:
...Слаба, даже неприятна немного; и неубедительна. Помнится, и раньше испытывал то же к этой части... Дочитал «Каренину». Самый конец прекрасно написан. Может быть, я ошибаюсь насчет этой части. Может быть, она особенно хороша, только особенно проста?
А однажды даже сказал, что отредактировал бы эту толстовскую вещь. То есть убрал бы из Толстого «слишком Толстого». Сделал бы ее по-бунински. Даже смешно. Отредактированный бог. Хорошее, кстати, название для какой-нибудь части книги.
Но в моей книге нет никаких названий для главок — только медленно тикающие, как у заторможенного Белого Кролика в «Алисе в стране чудес», часики: цифры.)
*Из очерка Бунина «Третий Толстой»
Свежие комментарии