
В издательстве «МИФ» готовится к выходу книга Маргариты Николаевой «Некрополи Петербурга. Адамовы головы, холерные кладбища и Гром-камень». «Сноб» поговорил с автором о том, как работали кладбища в бывшей столице, что изменилось с приходом советской власти и почему в крематорий ходили зрители и зеваки.

Маргарита, почему вы решили заниматься историей некрополей?
Девять лет назад я переехала в Петербург, на тот момент мне было 18 лет. Окончила факультет международных отношений СПбГУ и сейчас организовываю мероприятия в сфере культуры. Лет шесть назад начала гулять по историческим кладбищам, и из этих прогулок вырос сначала блог, а потом и полноценный проект whatiscemetery.
Я не считаю себя ученым, но к исследованию некрополей у меня научный подход. Мне важно рассказать о кладбищах, объяснить, что это больше, чем просто места для погребений. В каждом кладбище есть что-то свое, но люди обычно этого не замечают: например, разный внешний вид надгробий, уникальные детали — советские венки, дореволюционные скамейки.
В мае 2023 года издательство «МИФ» предложило мне написать книгу, к тому моменту я уже два года вела блог о кладбищах. Я удивилась, потому что не ожидала получить такое предложение в социальной сети, даже подумала, что это спам.
Что нового в вашем подходе? Какую структуру выбрали для книги?
Мы с издательством много обсуждали, как подать материал. От меня ждали легенды и мистику. Я отказалась и предложила исторический подход. А помогла мне в этом лекция, которую я придумала для одного из своих выступлений. В ней я рассказывала краткую историю петербургских кладбищ от допетровского периода до наших дней, упоминая различные события, влиявшие на некрополи: государственные указы, наводнения, революцию и другие. Эта структура в итоге была учтена в книге.
Как знакомые отнеслись к книге?
Друзья, знакомые — поддержали. От постороннего человека слышала обесценивающее мнение: «Сейчас все пишут книги». Но я не обижаюсь на это.
Насколько сегодня изучены исторические кладбища Петербурга?
В Петербурге дела обстоят лучше, чем в других городах, потому что есть богатая база источников, работы дореволюционных (Владимир Саитов) и советских, российских историков (Юрий Пирютко, Александр Кобак). Петербургские кладбища изучены неплохо, но всегда можно найти новые ракурсы и темы. Например, плохо раскрыта тема перебивок: кто их делал, получал ли за это деньги, приветствовалось ли это обществом? Или история с венками: в советское время сохранилась дореволюционная традиция размещать на могилах футляры с венками, лентами, фотографиями внутри. Материалов на эту тему мне не встречалось.
Перебивки — это повторное использование дореволюционных надгробий (обычно гранитных, но не только). С них стачивают данные о первом погребенном и выбивают новые, то есть буквально «перебивают» надгробие. Перебивки могли изготавливать прямо на могиле, а могли перемещать и в границах кладбища, и в границах города. Феномен перебивок характерен в первую очередь для советского времени, однако вторичное использование надгробий встречалось и до революции. Старые надгробия могли перемещать в пределах города, перетаскивая с кладбища на кладбище. Бывали случаи, когда в 1920–1930-е хоронили прямо в старую, дореволюционную могилу. Перебивки встречаются на многих исторических кладбищах Советского Союза.
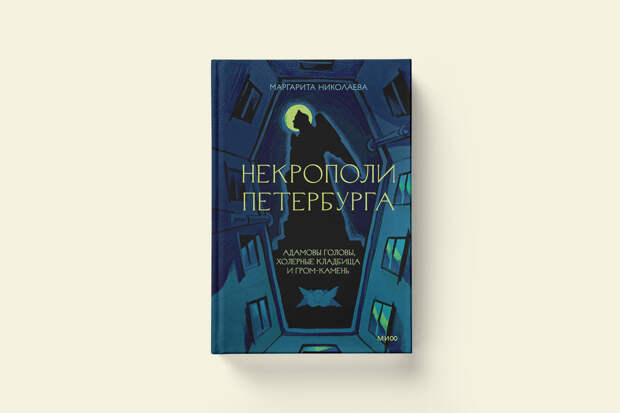
На дореволюционных некрополях Петербурга практика перебивок существовала?
Да, например, на старообрядческом Малоохтинском кладбище. Надгробиями староверов в 1840-е годы мостили тротуары рядом с тем же кладбищем.
Петербург всегда был многоконфессиональным городом. Где было принято хоронить иноверцев?
В разные периоды — по-разному. К концу XIX века католики, лютеране, иудеи, мусульмане имели свои кладбища, как и старообрядцы. Долгое время у католиков не было отдельного кладбища. У иудеев были отдельные участки на Волковом кладбище, только к концу позапрошлого века у них появился свой некрополь.
А где хоронили вельмож?
В Александро-Невской лавре и в Петропавловской крепости: но в крепости хоронили только комендантов (это кладбище до сих пор сохранилось у Петропавловского собора). Для людей попроще в 1710-е открыли кладбище на Выборгской стороне у Сампсониевского собора — тогда это было далеко за городом. Добираться туда, особенно в периоды ледостава и ледохода, было непросто, поэтому жители Петербурга нередко хоронили умерших при церквях: Вознесенской, Благовещенской, Андреевском соборе и других.
Как соседствующие православные, лютеранские, католические кладбища влияли друг на друга?
По-разному. Перекликались и архитектурные стили (например, на православных кладбищах легко можно встретить неоготику, как и неорусский стиль — на лютеранских), и традиции. В день Смоленской иконы Божией Матери, 28 июля (10 августа по новому стилю), Смоленское православное кладбище становилось местом народных гуляний — и каких! Сохранилось множество описаний происходящего на кладбище в тот день. В 1858 году актер Петр Каратыгин написал об этом небольшой, рассказ «День на Смоленском кладбище. Из записок петербургского старожила». Там читаем: «Наши публичные, официальные гулянья, по их однообразной чопорности, кто-то сравнил с похоронной процессией, а тут, наоборот, прогулку на кладбище можно было принять за самый веселый праздник». Священнослужитель Стефан Опатович спустя почти 20 лет аналогично описывает происходящее 28 июля: «…в праздник Смоленския иконы Божия Матери. Тогда приходят с единственною целью — погулять на кладбище, которое в этот день в недавние годы превращалось в место загороднаго гулянья — Петровский или Крестовский остров». Эти бойкие гуляния переняли лютеране, но сторожа соседнего кладбища боролись с этим: «…суровый смотритель немецкого кладбища… восстал против исконного обычая, запрещая своим немцам, из подражания русским… 28 июля входить в ворота Божьей нивы с съестными припасами».
Насколько в обычные дни были популярны прогулки на кладбищах?
Я читала в дневнике внука Николая I Константина Романова о прогулках по кладбищу Павловска как по парку. Дворяне (например, поэт Василий Жуковский) писали о прогулках по кладбищам Европы, сравнивая их с российскими не в пользу последних. А историк Михаил Погодин, побывав на Никольском кладбище лавры, жаловался на неубранные дорожки, разбитые надгробия и чертополох.
Кто оплачивал расходы по уходу за могилой?
Родственники покупали участок и должны были следить за могилой, а церковь следила за общим состоянием кладбища, порядком, вела учет погребенных, а также ухаживала за могилами, на которые были оформлены услуги: например, зажигание лампады, полив цветов или уборка.
Как выглядели ранние надгробия в Петербурге?
Деревянные кресты, доски, плиты прямоугольные и в форме гроба. На плитах указывалось имя, годы жизни, пространная эпитафия, иногда — крест и голова Адама внизу (это символ в виде черепа и перекрещенных костей).
Революция и установление советской власти многое изменили в нашей стране. Как это отразилось на работе некрополей Петрограда — Ленинграда?
В начале 1918 года вышел декрет «Об отделении церкви от государства…», который устанавливал светскую власть государства, лишал церковь прав собственности и возможности влиять на какие-либо общественные и государственные процессы. А в конце 1918 года был принят декрет «О кладбищах и похоронах», который отменял разряды и плату за место на кладбище, а также закреплял переход всех кладбищ, крематориев и моргов в ведение местных советов депутатов. Это означало, что кладбища стали бессословными и безразрядными, церковь больше не могла содержать кладбища, проводить обязательные религиозные обряды, а также вести учет погребенных. Факт смерти необходимо было регистрировать в органах ЗАГС, погребение было невозможно без выписки о регистрации.
Эти декреты уничтожили существовавшую ранее систему церковного учета, лишили церковь возможности получать доходы, а погребение перевели в разряд светских, а не религиозных услуг. При этом подобные процессы начали назревать еще до революции, но реализованы не были: например, идея кремации была предложена городской думе еще в 1900 году. Интересно, что в период НЭПа произошел временный откат назад: вновь были введены разряды (шестой или седьмой — самый дешевый, первый — дорогой), а некоторые кладбища, как, например, Смоленское, армянское или еврейское, можно было взять в аренду. Общины полностью содержали и обслуживали эти некрополи вплоть до конца 1920-х, когда ужесточили требования к арендаторам и обвинили их в религиозной пропаганде.
В начале 1930-х годов в Ленинграде по предложению Народного комиссариата просвещения РСФСР (Наркомпроса) было решено создать кладбища-заповедники — по примеру уже созданного в Москве кладбища-заповедника в Донском монастыре. Для этой роли были выбраны Лазаревский некрополь и Литераторские мостки Волковского кладбища. Решение о создании заповедника и случаи уничтожения надгробий на кладбищах «…натолкнули на мысль о переносе на Лазарево кладбище с других кладбищ тех памятников, которые являются ценным дополнением к экспозиции будущего заповедника».

Что случилось с дореволюционными надгробиями в 1930-е?
После революции кладбища стали расхищать: охраны больше не было, а дерево, металл и камень оказались очень нужны. Это происходило как по личной инициативе ради выживания или наживы, так и по указке властей: памятники использовали как строительные материалы (например, изготавливали поребрики), делали из них перебивки, просто разламывали. Некоторые кладбища в центре Ленинграда (Смоленское, к примеру) собирались превратить в парки с уничтожением большинства могил, поэтому там организовывали переносы захоронений известных лиц — в основном в музейные некрополи Александро-Невской лавры. После войны эти процессы продолжались, но уже не столь интенсивно.
В книге вы пишете о первом крематории Петрограда: «Нередко на сожжениях присутствовали зрители, как родственники покойных». Что это вообще было?
Речь идет о временном крематории, построенном на углу 14-й линии и Камской улицы. Сейчас от него ничего не осталось. Изначально крематорий планировали открыть в лавре, но не получилось, поэтому его организовали на Васильевском острове. В этом крематории сжигали тех, кто при жизни изъявил желание быть кремированным, а также умерших, личность которых опознать было невозможно. В крематорий приходили зрители, об этом в мемуарах писал как о модном развлечении Корней Чуковский: «…все голо и откровенно. Ни религия, ни поэзия, ни даже простая учтивость не скрашивают места сожжения. Революция отняла прежние обряды и декорумы и не дала своих. Все в шапках, курят, говорят о трупах, как о псах».
В блоге вы рассказывали о найденном надгробии 1869 года младенца Порфирия Кельнера. Что это за история: как это надгробие попало к вам и где оно теперь?
Надгробие было найдено в подвале советского жилого дома — о нем написали в пабликах, и подруга прислала мне пост. Спустя некоторое время с помощью тогдашнего ВООПИКа надгробие было перевезено на мемориальный участок Митрофаньевского кладбища (Малая Митрофаньевская, 9а), где находится и теперь. Туда же я отвожу и другие найденные в городе надгробия, их уже больше десяти: например, в этом апреле уже перевезла надгробие младенца Иоанна Керина, найденное недалеко от «Удельной».
Подготовила Мария Башмакова
Свежие комментарии