
Главный редактор издательской программы «Есть смысл» (Поляндрия NoAge) Юлия Петропавловская рассказала «Снобу» о том, зачем книге нужен редактор, а также о бережной работе с творческими людьми и сохранении профессии.

Кто такой редактор?
Это в первую очередь продюсер, холдер книжного проекта, без которого авторская задумка никогда не воплотится в форме книги на полке магазина. Редактор обеспечивает весь процесс рукописи внутри издательства, отвечает за концепцию, качество книги, за ее релевантную упаковку, которая должна помочь нужной аудитории обрести «своего» автора. Редактор — хранитель логики, здравого смысла, способный визуализировать нужный результат тогда, когда сам автор потерял ориентиры и запутался в идеях.
Во времена сомнений я люблю открыть переписки писателей и редакторов XIX века — в них много анекдотичного. Например, Гончаров после успеха «Обрыва» так благодарил своего редактора Стасюлевича: «Я в свою очередь должен сказать, что много обязан Вам скорым и успешным окончанием романа, ибо Ваше постоянное наблюдение за мной, непрестанное, живое побуждение к работе, неусыпное участие, почти личное, так сказать, присутствие Ваше при самом процессе писания мною… Таким образом мы и довезли воз до места». А буквально за пару месяцев до этого, маясь мыслями о своей творческой несостоятельности, Гончаров послал Стасюлевичу такое письмо: «...спешу просить Вас убедительнейше остановить печатание объявления о моем романе, от которого, как я теперь окончательно убеждаюсь, мне приходится отказаться навсегда. Не старайтесь поколебать меня — вы только прибавите несколько напрасных сожалений к моему невольному и необходимому отречению от пера».
Мне ценна бережная психологическая работа с творческими людьми, которые сфокусированы на собственной идентичности и десятки раз за день подвергают сомнению свою работу. Я чувствую, когда излишняя рефлексия тормозит писательский процесс, и умею подобрать нужные слова, чтобы подбодрить автора. У моей работы строгие логические рамки, и если у автора есть оригинальная идея, крепкая сюжетная основа и способность к сторителлингу, то я точно знаю, что вместе у нас получится сломать все преграды на пути к готовой рукописи. Сюжетные схемы и структурные ходы подчиняются понятным правилам, и мне со стороны проще вытащить буксующую машину текста. Большинству авторов сложно долго оставаться наедине со своим вордовским файлом — хочется подкрепления, уверенности, что ты делаешь не белиберду, что это действительно нужно читателям. Это твердая опора, помогающая относиться к своему тексту как к рабочему проекту с четкими задачами и сроками.
А точно нужен редактор, нельзя как-нибудь без него?
Я не знаю авторов, которым не нужен редактор. За любым талантливым текстом обнаружится фигура помощника, стоящего на страже логики и читательских интересов. Очень часто, когда я читаю тексты русскоязычных авторов, радуюсь задумке, хвалю оригинальность стиля, но с досадой отмечаю, что не было хорошего редактора, способного указать автору на сюжетные провисы, смысловые повторы, логические нестыковки, поверхностность деталей, нехватку художественной правды.
Хороший текст — всегда командная работа, тандем, в котором писатель и редактор доверяют друг другу, разделяют ценности и схоже видят желаемый результат. При этом редактор должен изначально верить в идею автора, а не пытаться притянуть текст к своим представлениям о прекрасном (так может случиться, например, если в роли редактора выступает писатель, воспринимающий других менее опытных авторов как падаванов, продолжающих его единственно верный творческий метод). Вопрос о том, за кем финальное решение, в работе с текстом для меня не стоит остро, потому что я как редактор предлагаю только те изменения, которые могу объективно обосновать — моя задача аргументировать свою позицию так, чтобы с ней невозможно было не согласиться. Если вдруг это не удалось — значит, правка необязательна. Часть предложений я высказываю в формате пищи к размышлению, идей, предлагаю подумать над разными вариантами, не диктую единственное возможное решение. И конечно, никогда не позволяю себе оценочных суждений. Если у человека все в порядке личностно, его не обижают комментарии типа «здесь нарушен закон тождества: тезис в первом абзаце не равен тезису во втором».
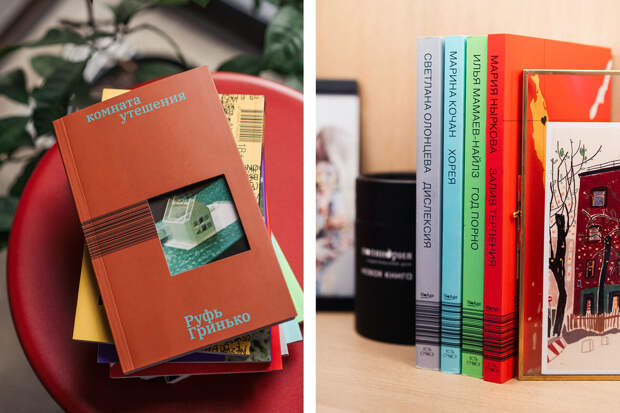
За 13 лет постоянной работы с авторами разных текстов (от журналистских репортажей до учебных пособий) могу вспомнить лишь пару кейсов, когда изначально выбранный для сотрудничества автор оказался не способен к командной работе. Я воспринимаю эти случаи как собственные просчеты: на этапе заключения договора я должна оценивать не только талант человека, но и его готовность воспринимать критику, видеть текст в отрыве от творческой амбиции. Отбор рукописей в портфель — это еще и собеседование с автором, где прощупываются его софт-скиллы. Здорово, что за годы работы у меня уже сложилось портфолио и репутация — ко мне приходят авторы, которые знают, чего ожидать. На первой встрече я всегда даю подробный фидбэк, предлагаю пути работы над текстом, объясняю свою роль. Автор заранее понимает процесс и может отказаться на берегу.
Можно ли навредить книге?
К сожалению, качественная редакторская школа, развивавшаяся в XIX веке и потом в Советском Союзе, утеряна. Если у вас есть сомнения, почитайте, как Некрасов-редактор работал с Тургеневым, а Мильчин — с Чуковской. Знаю, что это звучит по-снобски, но для «Сноба» пусть остается голая правда. Наше книгоиздание сейчас находится в плачевном положении отсутствия спроса. Очень невысокая маржинальность этого бизнеса, необходимость производить конвейерно много новинок в год, чтобы оправдать затраты, низкая покупательская способность аудитории, невнятные цензурные ограничения — все это приводит к тому, что профессия, востребованная при командной экономике, стала редкой и неоплачиваемой. А те, кому хочется все же редактировать, рассуждают так: зачем идти в издательство за 80 тысяч рублей, если можно делать контент для IT-компании за 180? (Если честно, это хороший ход мысли.)
Есть буквально пара учебных программ, где студентам комплексно преподают методику редактирования (многие закрылись, другие выродились в примитивные полугодичные курсы литправки). В профессию приходят в основном из смежных областей люди, понятия не имеющие о схеме редакторского анализа, законах формальной логики, на которых должна базироваться композиция текста, способах определения потребностей целевой аудитории… Все это звучит очень скучно для неспециалиста. Проще говоря, бывает, что редакторскую задачу берут на себя вчерашние маркетологи (и это еще неплохой вариант), писатели, корректоры — люди, которые любят литературу и могут иметь хороший читательский вкус. Но это очень далеко от необходимых компетенций. Так что да, я видела случаи, когда такое вмешательство делало книгу хуже.
Иногда авторы обзаводятся такими «редакторами» еще до отправки рукописи в издательства — чтобы причесать свой текст перед показом тем, кто принимает решение о публикации. Даже если не брать в расчет проблему навыков, мне не нравится практика, когда текст редактируется в отрыве от издательской концепции. Как холдер серии, я хорошо знаю свою аудиторию, вижу удачные и неудачные с точки зрения продаж кейсы, понимаю, как развернуть текст внутри портфеля, чтобы его заметили. Редактирование без портрета конкретной аудитории издательства перед глазами — так себе идея.
И все же чаще случается, что над книгой, кроме автора, вообще никто никогда не работает. В крупных издательствах зачастую ответственный редактор (штатный менеджер) даже не успевает ни разу прочитать текст. Он сразу отдает рукопись внештатному литературному редактору, и происходит это на предфинальном этапе, когда тот уже не может предложить концептуальных, структурных, фактологических изменений. Совершается локальная стилистическая правка, и в таком виде текст идет в печать. Это грустная, характерная для России механика — в западном процессе я все же обычно вижу редактора-продюсера, отслеживающего авторский прогресс итерационно, способного повлиять на каркас произведения.
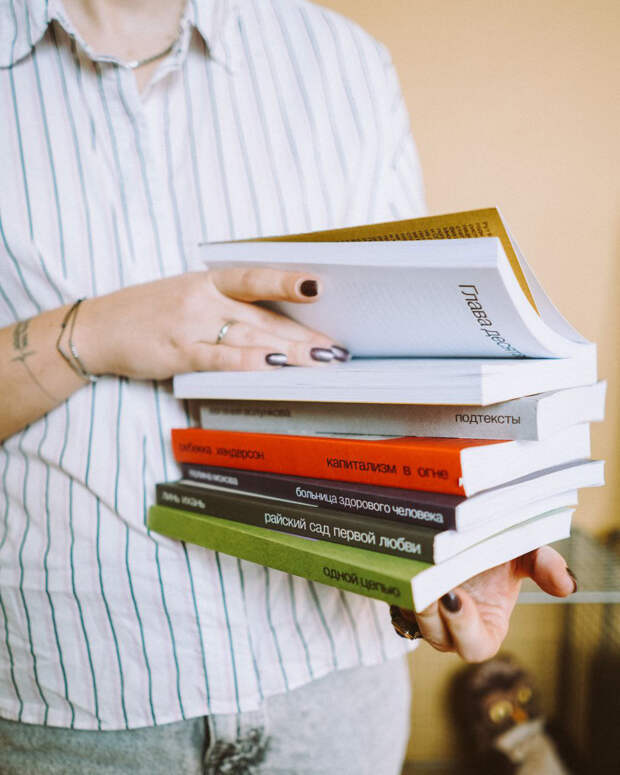
Зачем тогда идти в книгоиздание?
Я думаю, что в книжной индустрии стоит искать себя тем, кому нравится перспектива влиять на современный литпроцесс, у кого есть оригинальное видение. В первую очередь книжное дело — это комьюнити профессионалов, которые просто не могут без книг. Мне нравится мысль о том, что я и мои коллежанки — например, преподаватели и авторы Школы литературных практик, откуда родом большинство текстов «Есть смысл», — репрезентуют ту часть творческой интеллигенции (простите!), которой не хватает актуальной миллениальной прозы о человеке в России здесь и сейчас. О его личных проблемах, кризисе веры в теорию малых дел, трудности диалога в условиях поляризации. Мы делаем литературу, которую хотим читать сами, и видим, что за нами идут еще несколько тысяч лояльных читателей, у которых сейчас по сути нет или почти нет альтернативы.
Тут, как в балабановском «Мне не больно», важно найти своих. Я продолжаю работать над своей серией только потому, что мне повезло познакомиться с коллегами из NoAge, с которыми у нас схожие вкусы, требования к качеству, представления о человеческой порядочности. Мне очень важно сейчас поделиться опытом и методикой с как можно большим количеством начинающих редакторов, которые схоже смотрят на литпроцесс. Когда я буду знать, что талантливым авторам есть к кому обратиться за вдумчивой, бережной, логичной редактурой, буду считать свою задачу выполненной. На курсе в Creative Writing School «Редактор: основы профессии» мы с коллегами-редакторами попробуем организовать такую передачу опыта, знаний, методики и создать пространство, где люди, действительно увлеченные книгами и литературой, встретятся вместе и смогут получить достаточно навыков и поддержки, чтобы продолжать непростой, но невероятно интересный и важный путь в современной российской литературе и помогать новым хорошим книгам и авторам появляться на свет.
Свежие комментарии