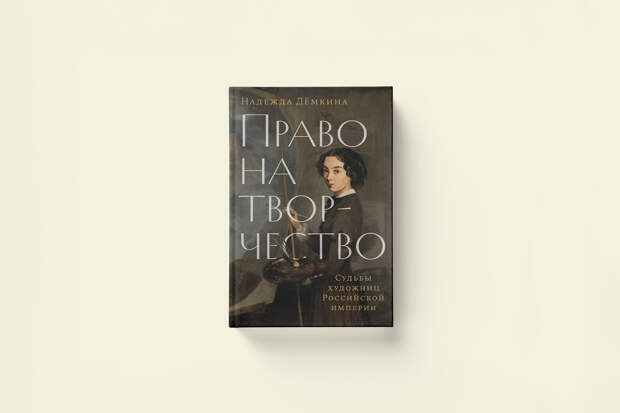
В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Право на творчество». Ее автор Надежда Демкина рассказывает о великих российских художницах. «Сноб» публикует отрывок.
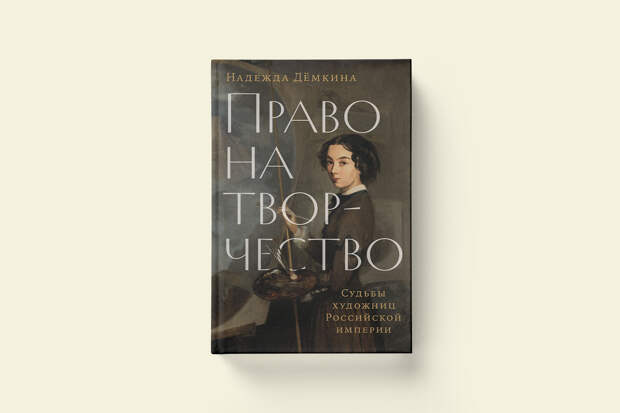
Елизавета была в числе лучших учениц: «К выдающимся художницам того времени можно присоединить и Эндаурову, хотя она и мало занималась масляною живописью, больше рисуя с натуры растушкой и акварелью».
Педагоги — Иван Крамской, Павел Чистяков, Луиджи Премацци — отмечали талант девушки. В 1864 году она закончила обучение с серебряной медалью, а позже на академической выставке получила за рисунки животных и большую золотую медаль. Блистала она, кстати, не только работами, но и красотой — в Академии художеств тогда начали давать первые костюмированные балы, и Эндаурова в костюме богини Дианы была так хороша, что её в числе некоторых других дам изобразил на рисунке в память об этом событии художник А. И. Шарлемань.Вскоре Елизавета вышла замуж — её мужем стал тоже творческий человек, Людвиг Бём, скрипач, в будущем преподаватель и профессор Петербургской консерватории, из обрусевших венгров. Он всегда будет поддерживать Елизавету в её стремлении к работе (между прочим, на дворе ещё только 1870-е годы, когда эмансипированные работающие барышни были скорее диковинкой).
По воспоминаниям Лаврентьевой, Бём так говорила о своём предназначении: «Установилось мнение, что с замужеством женщина всегда или большей частью кончает свои занятия искусством, всё равно, музыка это, или живопись, или что другое, не находя для этого достаточно времени. Вспоминаю при этом слова нашего великого писателя Л. Н.
Толстого, который говорил, что у кого есть призвание действительное, то для этого найдётся время, как находишь его для того, чтобы пить и есть. И это совершенная истина; чувствую это по опыту. Любя всей душой своё занятие, я и по выходе замуж и после того, как родила ребёнка, всё так же, если ещё не более, занимаюсь любимым делом». Тут, мне кажется, что Бём немного лукавит: у неё была одна дочь (нетипичная ситуация для XIX века, когда многодетность являлась нормой) и к тому же был поддерживающий творческие искания муж. Немногие могли похвастаться тем же, и большинству действительно приходилось или приостанавливать свою работу, пока дети маленькие, или заканчивать карьеру, или искать постоянную поддержку (какую оказывала, к примеру, мать Зинаиды Серебряковой, после смерти зятя взявшая на себя роль няньки при четверых внуках).Карьера Елизаветы Бём началась не с акварелей, хотя она и получала за них медали во время обучения, а с элегантных и ныне редко используемых силуэтов. Эта древняя техника существовала и в Китае, и в Древней Греции, а в XVIII веке стала заново популярной во Франции и там же получила сегодняшнее название. «Силуэт» на самом деле — фамилия Этьена де Силуэта, политического деятеля середины XVII века. Он был настолько скуп, что карикатуру на него сделали в виде силуэта (дешёвого и простого по сравнению с обычным портретом, заказанным у живописца), — с тех пор такие картины и стали называть силуэтами. Из Франции они пришли в Россию и на протяжении всего XIX века оставались очень популярными; ими увлекались и любители, и профессионалы. Техника была разной: силуэты вырезали или рисовали, обязательно используя контрастный фон.
Бём же сделала нечто новое: она свои силуэты стала литографировать! Художница рисовала на каменной плите, затем незакрашенная область вытравливалась кислотой, плита натиралась типографской краской, и иллюстрация отпечатывалась. Получался тираж. Именно в технике литографии работала типография её дяди Алексея Ильина. И как раз то, что Елизавета придумала превращать свои силуэты в книги, объединяя их по темам, сделало её искусство популярным и доступным. Художницу вдохновляли детство и деревня — и деревенские дети стали главными героями сперва силуэтов, а потом и открыток. «Из деревенских воспоминаний», «Силуэты из жизни детей», «Пословицы в силуэтах» — каждый год Бём выпускала новый сборник. Техника литографии позволяла прорисовывать и отпечатывать тончайшие детали: кружево трав на лугу, усы кота, растрепавшиеся волоски в косичке девочки, которая нетерпеливо ждёт, когда бабушка уже заплетёт ей ленту, — это никак не удалось бы сделать с помощью традиционного вырезания силуэтов. Все летние зарисовки, выполненные Елизаветой в деревне с натуры, шли в дело.
Параллельно Бём иллюстрировала классиков — большой популярностью пользовались издания «Записок охотника» Ивана Тургенева, «Басен» Ивана Крылова, поэмы Николая Некрасова «Мороз, Красный нос», русских народных сказок с её силуэтами. Лев Толстой попросил художницу работать с его издательством «Посредник»: оно выпускало дешёвые книжечки, доступные даже для самых бедных и распространявшиеся по деревням. Бём с радостью согласилась и делала им оформление. Детские журналы «Игрушечка» и «Малютка», знаменитые «Нива» и «Всемирная иллюстрация» — все хотели заполучить бёмовских «чернышей» для своих публикаций. Репин и Крамской признавались в любви к выразительным силуэтам художницы.
Среди множества книг выделяется одна, созданная Елизаветой в 1880 году и опередившая своё время. Книга силуэтов «Пирог» без слов рассказывает забавную историю о том, как девочка печёт пирог, а кот и собака пытаются ей помешать. Перед нами прообраз комикса — истории в картинках, последовательно развивающейся и понятной без слов. Эту книжку с удовольствием рассматривали и дети, и взрослые.
За 20 лет Бём оформила десятки книг, обложек, журнальных статей и столько же выпустила собственных оригинальных изданий. От напряжённой работы зрение художницы стало слабеть. В 1890-х годах она окончательно отошла от силуэтов и вернулась к любимой со времён учёбы технике акварели. И акварельные работы принесли ей ещё большее признание. Дело в том, что именно в то время в Российской империи наконец разрешили использовать «открытые письма» — открытки. Новомодное изобретение, которое ещё в 1870-х годах стало популярным в Европе, быстро захватило и Россию. Писали много и часто, не только в другие города, но и по городу. Почтовые отправления служили главным и единственным (телефон был ещё новинкой) способом удалённого общения.
Две девочки с серьёзными лицами ведут разговор: «Всякая невеста для своего жениха растёт» — гласит надпись. Мальчик с растрёпанными вихрами в синей косоворотке сидит с ложкой и миской: «И я на том пиру был, мёд-брагу пил». Парочка на завалинке — мальчик в крестьянском зипуне, девочка в платке: «Кому до того дело, что я с кумом сидела!» Девочка в нарядно расшитом головном уборе, переднике и сарафане облокотилась на притолоку: «Хлеба-соли откушать, нашу речь послушать». Один раз увидев открытки работы Бём, вы их точно узнаете. Дети в национальных костюмах иллюстрируют народные пословицы и поговорки или исторические события. Художница соединила вместе свои любимые темы — и оказалось, что всё это очень востребовано. Она нарисовала более 300 вариантов иллюстраций для открытых писем, выпуская их сериями, её стиль повторяли сто лет назад, копируют и сегодня, а сами открытки продолжают выпускать и у нас, и за границей. Кстати, издатель в Париже предлагал Бём выкупить все права на её работы, но она отказалась, ведь иначе открытки перестали бы печататься в России.
Сейчас исследователи филокартии разделяют открытки на репродукции (когда повторяется более раннее изображение) и оригинальные (изображение создано художником специально для воспроизведения на открытых письмах).
Бём стала одним из тех авторов, что разрабатывали, как мы бы сказали сейчас, дизайн специально для открыток. Несмотря на уникальность работ и их успех, отношение к открыткам вообще и к её работам часто скорее снисходительное. Утилитарность почтовых карточек как будто бы выводит их из области высокого искусства. А массовая популярность ставит клеймо «потакания массовому вкусу».
Если разобраться, упрекнуть в этом художницу невозможно. Её интерес к народной тематике и фольклору начался с детства, намного раньше, чем пошла массовая мода на русский стиль. Работала Бём очень тщательно; друзья пишут, что в её квартире были и костюмы, и украшения, и предметы крестьянского быта, которые она изучала, детей рисовала по собственным наброскам, дружила и сотрудничала с историками и собирателями народной культуры. Исследователи отмечают, что даже надписи, которые Бём делала на открытках или в книгах, по стилю и времени соответствуют изображаемой эпохе: выбирая более старый полуустав XVI века или более новый шрифт, стилизованный под XVIII век, она делала это сознательно. Общий интерес к русской истории, сказкам, быту возник в 1880-х годах и был связан с поиском своих корней, новых тем и художественного языка (причём во всех странах — например, в Англии тогда же началось движение «Искусства и ремесла»). В это время начали собирать свои этнографические коллекции Мария Тенишева, Елизавета Мамонтова, сёстры Александра и Варвара Шнейдер, стали делать иллюстрации Елена Поленова, Иван Билибин, Виктор Васнецов, Николай Рерих, Мария Якунчикова-Вебер и т. д. Современники — как профессионалы (Павел Третьяков покупал для своего собрания оригиналы её акварелей и силуэтов), так и публика всех сословий — любили и ценили произведения Елизаветы Бём. Однако включать художницу в ранг мастеров искусства, повлиявших на культуру, сегодня почему-то не спешат.
Кстати, подобная, только ещё более маргинальная судьба ждала младшую сестру Елизаветы — Любовь Эндаурову. Она тоже стала художницей, но писала только цветы и насекомых, причём достигла в этом жанре большого мастерства, что также отмечали современники. И её работы печатались на открытках. Но сегодня имя Любови практически нигде не упоминается, кроме нескольких статей в специализированных журналах по филокартии. Цветочки, жучки, открытки — да разве это можно назвать искусством?
Свежие комментарии