
Накануне юбилейного концерта, который пройдёт 28 сентября, Леонид Гофман рассказал «Снобу» про музыкальное мышление, нововенскую школу, влияние Филипа Гершковича и «Нотную тетрадь Магдалены Бах».

До того как начать заниматься композицией, вы учились как скрипач. Как вы пришли в музыку? Это было решение родителей? Расскажите немного о вашей семье?
Мой дед был зятем киевского раввина, и о Бабьем Яре мы знаем не из книг. Отец был авиаконструктором, в хрущёвское время работал в космической отрасли. Чтобы я начал учиться музыке, хотела мама. Мы жили в Москве на Смоленской улице, и я стал ходить в Гнесинскую семилетку (она тогда находилась на Собачьей площадке).
Когда расширяли Бородинский мост, наш дом снесли, и мы переехали. И вот через дорогу от нашего дома открылась музыкальная школа им. Дунаевского. Мальчишка, я мало что знал. Мой старший брат решил, что надо поступать на гобой, и нарисовал руками в воздухе круги — нечто похожее на валторну. Он так представлял себе гобой. Я согласился, но педагоги школы рассудили иначе: «Какой гобой? Раз у меня есть слух, нужно учиться на скрипке». Так я не стал ни гобоистом, ни валторнистом.
Я слышала, ваше наставление ученикам звучит так: «Композитором можешь ты не быть, а музыкантом быть обязан». Музыкант — что это за профессия? Что это слово для вас значит?
Когда-то в РГГУ я читал курс для студентов разных специальностей (музыкального факультета не было), курс назывался «Музыка великих мастеров как музыкальный метод познания». Все знают, что существуют научные методы познания мира — это и математика, и физика, и биология, и так далее. Но музыка — это тоже метод познания, художественный метод — в этом её суть.
Конечно, это касается музыки великих мастеров. Чем они отличаются от смертных? Их музыка является открытием. А не изобретением. Например, Игорь Стравинский прямо говорил, что изобретает музыку. И он действительно изобретал, поэтому мне трудно назвать это музыкой. Открытие касается того, что было и будет всегда. До Баха или Бетховена мы не знали того, что они открыли нам. Музыкант, делающий открытия, познаёт мир. Композиторское образование, музыкальное образование — это именно то, что делает человека музыкантом. Музыкант — это высокое, общее понятие, объединяющее всех открывателей: композиторов, скрипачей, певцов, дирижёров…
И теоретиков?
Так ли? Здесь я бы вспомнил Шёнберга: «Теоретик — тот, кто учит тому, что сам не умеет делать». Хотя, конечно, есть исключения. Но «открытие» вроде «седьмого типа большого рондо» — это скорее маркетинг, чем познание мира.
Какое образование требуется композитору, чтобы он стал музыкантом?
Искусство композитора состоит из трёх частей — гармонии, контрапункта и теории и анализа формы. Человек, который их постигает — музыкант, то есть тот, кому знаком музыкальный метод познания. А дальше уже не важно, флейтист он, пианист или скрипач. Ты не можешь считать себя композитором, если ты не музыкант. Это не значит, что ты должен играть как Давид Ойстрах или Святослав Рихтер.
А когда вы сами начали заниматься композицией?
В училище им. Ипполитова-Иванова. Там работали тогда блестящие музыканты — участники Квартета им. Бородина, Квартета Комитаса в его первом составе. Это было невероятно интересно, стоя за дверью, подслушивать, как они репетируют. Тогда же я начал посещать класс «свободной композиции», но быстро понял, что это слишком похоже на «дом культуры». Но училище я закончил, несмотря на то что дама, преподававшая «марксизм-ленинизм», упорно отказывалась принять экзамен по истории партии.
Вы плохо учили ленинизм?
Однажды, на лекции по марксистско-ленинской эстетике на тему «Стилистические черты советской архитектуры» преподавательница объясняла, что черты советской архитектуры — это «сталь, бетон, стекло». Время было хрущёвское, пятиэтажное. Я называл этот стиль «архитектура в форме кирпича». Моё сердце не выдержало, я встал и сказал: «Но ведь вы говорите не о стилистических чертах советской архитектуры, а перечисляете средства архитектуры ХХ века».
Она вскипела: «Садитесь, Гофман! В вас нет ни капли патриотизма!» В споре Хрущёва с Вознесенским она была на стороне Хрущёва, и она невзлюбила меня. Мне говорили: «Ты что, не понимаешь, что она антисемитка!» Тогда это даже не приходило мне в голову. Но я не очень обращал внимание на то, что происходило в училище. На последнем курсе я начал заниматься у Филипа Гершковича, прекрасного музыканта, учившегося у Альбана Берга и Антона Веберна в Вене.
Как бы вы описали влияние Гершковича на вас как композитора и в целом на русскую музыкальную культуру?
Недавно я слушал покойного Родиона Щедрина, и с одной вещью я полностью согласен, а именно с тем, что у нас очень сильная исполнительская школа и совсем нет композиторской. К сожалению, Гершкович как музыкант и педагог заметного влияния на российскую музыку не оказал. Умники к нему приходили, чтобы числиться «учеником ученика великого Веберна». Но я был ему абсолютно предан.
В Советском Союзе музыка композиторов «Новой венской школы» не исполнялась и не изучалась. Но Гершкович, как ученик нововенцев, всё равно преподавал «по Шёнбергу»: триединство дисциплин, о которых я говорил, — его кредо. Оно стало и моим. Филип Моисеевич был для меня святым человеком.
Он учил тому, что традиция и настоящее новаторство невозможны друг без друга. Учил, что новаторство произрастает из традиции, иначе «авангардизм» становится просто «эффективным маркетингом».
Шёнберг смеялся над модой: «Атональность» в буквальном смысле означает «музыка без звуков». Он говорил «атоническая музыка». Тональность, если её по-настоящему глубоко понимать, несёт в себе возможность новых открытий. Когда мы говорим: «Мандельштам — это Пушкин XX века» — это правильно. Ведь Мандельштам не противопоставлял себя русской поэзии, он родился в ней. Дело не в том, новая или старая музыка, а в том, музыка это или нет.
Для Гершковича основой музыкальной культуры была австро-немецкая традиция, чистая музыка, которая имеет наднациональное качество. Вот почему мы все до сих пор учимся по «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». Остальное — внемузыкальные игры. Филип Моисеевич был патриотом немецкой музыки, такой же всеобщей, как Библейские ценности. И «Новая венская школа» Шёнберга — это возрождение, сохранение и продолжение классической традиции. Разве не смешно, когда слышишь, что Шёнберг ликвидировал тональность — это абсурд. Как можно ликвидировать явление природы?
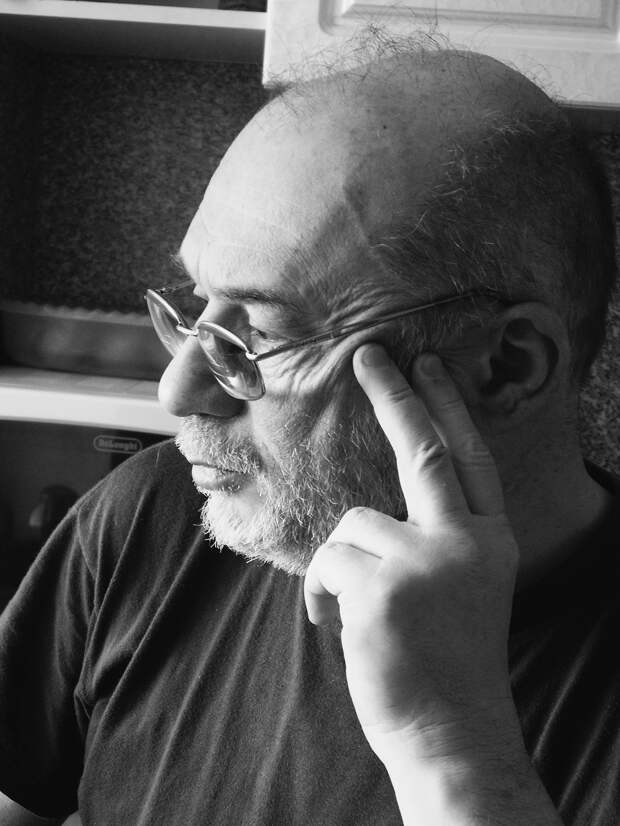
Хочу вернуться к вашей фразе об обязанности быть музыкантом. Её первоисточник — строчка Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». А музыкант обязан быть гражданином?
Я думаю, обязан. В чём состоит гражданская позиция? Вот Николай Римский-Корсаков оркестровал оставшуюся неоконченной оперу покойного друга Модеста Мусоргского. Зачем? Ради денег? Нет. Тот же Римский-Корсаков выступил в защиту своих студентов в 1905 году, за что был уволен. Он поступил как гражданин. Такие, как он, были высоко моральными, благородными людьми.
Чистым, благородным человеком был и Всеволод Петрович Задерацкий. Я оркестровал его оперу и Скрипичный концерт. Почему? Потому что он был безвинной жертвой сталинского режима, воссоздавшего империю, и замечательным музыкантом. Скрипичный концерт Задерацкого ничем не хуже концерта Глазунова. Тогда Всеволод Петрович не мог даже надеяться на то, что эта музыка будет исполнена. И когда я услышал, что есть такая неоркестрованная вещь, я не мог не взяться за работу.
Я вспоминаю о другой империи — не настоящей, а художественной. О воображаемом братстве творцов, в которое для Роберта Шумана входили и царь Давид, и Бетховен, и его жена, пианистка и композитор Клара Вик, и Паганини, и Лист, и Шопен. Кто для вас является членом вашего духовного братства, вашей собственной художественной страны, кроме, например, Шёнберга, Гершковича, Мандельштама?
Я никогда об этом не думал. Но, например, это Михаил Горбачёв. В 1991 году он говорил, что нас ждёт в будущем: объединение Европы и Северного полушария.
В этом смысле не всё получилось.
Ну, что значит — не получилось? Вам дату назвать, когда получится? Горбачёв смотрел дальше. Когда я впервые встретился с ним, я сказал: «Начиная с 1985 года я получаю большое удовольствие, наблюдая за вашим политическим искусством». Он моментально отреагировал: «Ну как? Выживаете?» Я был нормально одет — не богато, не бедно… но он как будто понял, что для меня перестройка — не пикник.
Разве Ленин или Сталин могли задать такой вопрос? Как сделать так, чтобы люди выживали, было его заботой. В окончании разговора я сказал ему: «Я просто хотел сказать, что я вас люблю». И я рад, что это сказал… Очень важно успеть сказать человеку вовремя, при жизни. В моей компании — Шиллер и Бетховен с финалом его Девятой симфонии о единении человечества. Если все произошли от Адама и Евы и у всех общий предок, то мы все в равной степени обязаны быть людьми… Будь человеком, Баранкин! Идея об общечеловеческих ценностях вдохновляла и Горбачёва. У него было множество званий и наград со всего мира. Он предложил миру то, от чего мир не мог отказаться.
Если музыка — метод познания мира, насколько он может быть всем доступен?
Знаете, я же категорически не сноб. Но я считаю, что музыку надо преподавать всем. Она учит логике — не только формальной, но и музыкальной. Шёнберг писал, что музыкальная логика иногда пользуется исключениями из причинно-следственного закона. Вспомните 26-ю сонату Бетховена. Медленное, тягучее вступление — и вдруг буря звуков.
Мы можем, конечно, пересказать эту музыку как некий «сюжет». В нём речь идёт о прощании, герой переживает расставание, он садится в карету, он всё знал, но, оказывается, не всё. Вот видите, я рассказал вам Двадцать шестую сонату, теперь вы можете её не слушать! Шутка. Мы не использовали метод музыкального познания мира, только лишь пересказали музыку, попытались перевести её на другой язык. Поэтому «летающая тарелка», как назвал музыку Филип Моисеевич, опять ускользнула от нас.
В музыке содержанием является форма. Как говорил Осип Мандельштам, «если поэзия хоть сколько-нибудь соотносится с пересказом, это значит, что “простыни не смяты, муза там и не ночевала”».
Цель поэта — создать непереводимую форму. И эта форма непереводима на язык какого-то дополнительного содержания. Я бы хотел процитировать кое-что из одной своей статьи: «Если мы, дай-то Бог, перестали считать, что величие романа заключается в том, что он — “энциклопедия” или “зеркало революции”, и согласились принимать за содержание поэзии саму поэзию, то это уже могло бы означать, что сделан важный шаг в правильном направлении: от словоблудия вокруг музыки — к музыкознанию, то есть к тому, чтобы начать мерить искусство мерой искусности».
Часто говорят, что новая, искусная музыка в XX веке стала слишком рассудочна, антиэмоциональна. Слушая вашу музыку, я не могу с этим согласиться. А вы как относитесь к этому утверждению?
Это могли сказать люди, чьё образование явно недостаточное.
Однажды Шёнберга спросили, как играть его квартет: «Как играть? Играйте, как Чайковского!»
Мои музыканты — те, кто прекрасно играют классическую музыку. Другие не смогли бы — ни технически, ни музыкально. Мне повезло. Это Юрий Полубелов — замечательный пианист, обожаю его. Есть несколько вещей, которые написаны именно для него. Александр Тростянский — чудесный, чрезвычайно тонкий музыкант, уникальный скрипач. Это Михаил Вайман и Дина Иоффе, это и мой сын Илья, который вырос на «Учении о гармонии» Шёнберга, и другие блистательные музыканты.
На концерте 28 сентября прозвучит «Эпитафия» в память о жертвах терроризма — отвратительнейшего явления нашей жизни. И если музыка «Эпитафии» — трагическая, то Пассакалия из «Еврейского дивертисмента» на невероятно мистический текст пророчества Иезекииля о воскрешении из мёртвых — это для меня музыка надежды.
Беседовала Юлия Бедерова
Свежие комментарии