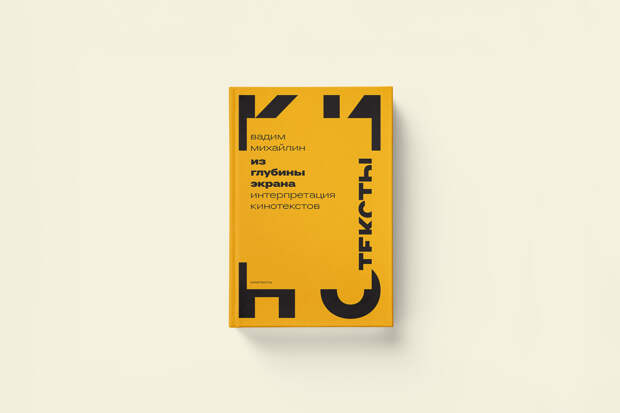
Антрополог и филолог Вадим Михайлин написал книгу «Из глубины экрана». В ней автор исследует советское кино во всем его многообразии: от картин Юлия Райзмана до «Маленькой Веры».
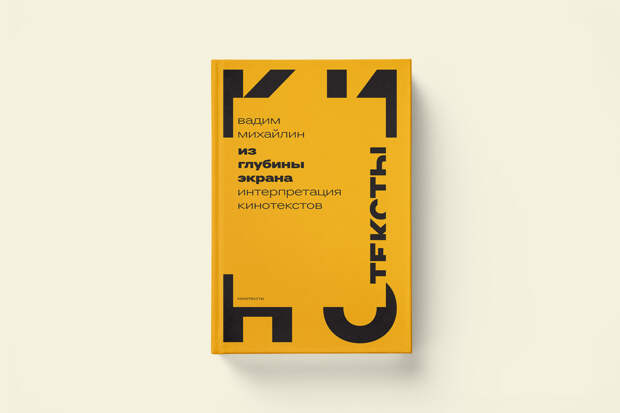
1. Соль земли
В 1972 году Луис Бунюэль снял один из последних и лучших своих фильмов — «Скромное обаяние буржуазии», в откровенно фарсовой сюрреалистической манере рассчитавшись с тем классом, который составляет основу основ Французской Республики. Причем главным (коллективным) героем картины является не просто французская буржуазия, а именно буржуазия Пятой республики — современная режиссеру «соль земли французской». Основные темы фильма — зыбкость представлений о реальности и недостижимость желаемого, даже если все у тебя в жизни схвачено, а желаемое сводится всего лишь к возможности удовлетворить простейшую и как бы обязательную для всякого порядочного француза потребность — хорошо поесть в хорошей компании.
Основной прием, при помощи которого моделируется ткань фильма, — типичное для сюрреализма наложение различных репрезентативных жанров и устойчивых сюжетов, составляющих общий багаж буржуазной культурной традиции (во всех возможных модификациях — от романтизма до натурализма и от душеспасительной повести о поисках себя до криминальной драмы, боевика и откровенного нуара), но категорически несовместимых в рамках одного высказывания. В итоге получаем фугу на тему когнитивного диссонанса. Буржуазия — законный объект для иронии еще со времен Мольера, а потому ничто не мешает режиссеру выстраивать между зрителем и представляемой проективной реальностью ироническую дистанцию, которая не дает зрителю в полной мере испытывать чувство эмпатии по отношению к героям фильма: именно поэтому герой един в шести лицах, мужских и женских (отсутствие конкретного объекта для эмпатии), а откровенно саморазоблачительный характер представленных сюжетов старательно препятствует всякой зрительской попытке совместить собственную позицию с позицией какого-то индивидуального действующего лица (срыв эмпатии).
Ровно через десять лет на противоположном краю Европы Роман Балаян снял один из своих первых фильмов «Полеты во сне и наяву». Лучше этой картины он до сей поры так ничего и не создал. Как и в случае со «Скромным обаянием буржуазии», в фокусе оказывается вполне конкретная социальная страта, соль земли русской, советская (или — российская, если иметь в виду более широкий историко-культурный контекст) интеллигенция, на очередном, также достаточно четко очерченном этапе своего существования. Это интеллигенция «Пятой советской республики» (если первые четыре — большевистский военный коммунизм, НЭП, сталинская и хрущевская эпохи), то есть позднесоветского периода, который, начавшись вскоре после устранения от власти Никиты Хрущева, закончился с развалом Советского Союза. Основные темы фильма — зыбкость тех связей, которые существуют между главным героем и современной ему действительностью; и недостижимость желаемого. Прежде всего потому что ты сам не знаешь, чего хочешь, и все, что есть вокруг тебя, — не твое. Основной прием, при помощи которого моделируется ткань фильма, — обнаружение ненадежности и неприятной амбивалентности, казалось бы, устойчивых социальных ролей и поведенческих моделей. На тему когнитивного диссонанса здесь исполняется не фуга, а, скорее, кантата, четко отцентрованная на солисте. И в этом отношении портрет позднесоветской интеллигенции от Романа Балаяна радикально не похож на портрет французской буржуазии от Луиса Бунюэля. Никакой дистанции между зрителем и протагонистом не предполагается: фильм самым очевидным образом рассчитан на выстраивание когнитивных мостиков между тем и другим — мостиков неудобных, диссонансных, должных проблематизировать собственную ситуацию зрителя. Недаром в протагонисте узнавали себя и сам режиссер, и артисты (еще на этапе чтения сценария), и, конечно же, значительная часть целевой аудитории, то есть аудитории интеллигентской.
2. Об интеллигентности и взрослости
Прежде чем перейти непосредственно к анализу фильма, необходимо выстроить ряд предваряющих этот анализ посылок, из которых я буду исходить. В первую очередь — определить ключевые особенности русской/советской интеллигенции означенной эпохи. Интеллигенция и интеллигент — понятия, свойственные одной-единственной культурной традиции — русской. Они не переводимы адекватно ни на один из европейских языков, не говоря уже о языках азиатских и африканских. Если оставить в стороне откровенно оценочные определения, данные изнутри самой группы и четко ориентированные на ее выигрышное позиционирование по отношению к другим группам («Социальная группа лиц, профессионально занимающихся умственным — преимущественно сложным и творческим — трудом, развитием и распространением образования и культуры и отличающихся высотой духовно-нравственных устремлений, обостренным чувством долга и чести»), а также определения чисто советские, пытавшиеся сочетать социологически мотивированную фразеологию марксистского образца с совершенно беспомощными описательно-каталогическими периодами («Интеллигенция — общественная прослойка, состоящая из людей умственного труда. К ней относятся инженеры, техники, другие представители технического персонала, врачи, адвокаты, артисты, учителя и работники науки, большая часть служащих»), то можно попытаться определить место этой страты исходя из ее функциональных характеристик в российских социальных пространствах.
Михаил Леонович Гаспаров написал в свое время, что «русская интеллигенция была западным интеллектуальством, пересаженным на русскую казарменную почву». И здесь с ним трудно не согласиться: даже с точки зрения марксистского анализа, требующего определять любой социальный феномен через его отношение к средствам производства, ибо интеллигенция в России традиционно кормится от государственной власти, которая и есть в нашей стране главное средство производства и распределения статусов, смыслов, ресурсов и пр. Российское государство, вне зависимости от вывески, под которой оно в данный момент существует, способно более или менее стабильно функционировать только в условиях тотальной апроприации всех публичных пространств, сфер и дискурсов — политических, экономических, престижных, художественных и т.д., и оттого испытывает выраженную идиосинкразию в отношении любой альтернативной публичности. Российская интеллигенция, в отличие от западных интеллектуалов, сформировалась в условиях, не предполагающих иной публичности, кроме производимой, спонсируемой и контролируемой (так или иначе) государством. И потому, если обратиться еще раз все к тому же гаспаровскому тексту:
Когда западные интеллектуалы берут на себя заботу о самосознании общества, то они вырабатывают науку социологию. Когда русские интеллигенты сосредоточиваются на том же самом, они создают идеал и символ веры. В чем разница между интеллектуальским и интеллигентским выражением самосознания общества? Первое стремится смотреть извне системы (сколько возможно), второе — переживать изнутри системы.
Впрочем, русская интеллигенция раз и навсегда нашла себе в рамках этой системы по-своему уникальную нишу. Интеллигент — это профессиональный посредник между публичными и частными пространствами, дискурсами и уровнями ситуативного кодирования, трансформирующий смыслы, «переводящий» с больших дискурсов на малые, и наоборот. Большая идея как руководство к частному поступку — его законная зона ответственности, равно как и наоборот: частная ситуация, увиденная с точки зрения больших идей. В этом смысле интеллигенция — и впрямь «прослойка», как говаривали марксисты-ленинцы, но только не между классами, а между разными уровнями вписанности разных групп в публичность. Впрочем, дихотомия эта принципиально неравновесна — привилегированным ее членом по определению является публичная составляющая, поскольку именно к ней привязаны основные стратегии культурной памяти (и — автолегитимации), автопозиционирования (успех, востребованность) и т.д.
Главная историческая миссия интеллигенции есть производство метафор, символических ресурсов, при помощи которых: ) индивидам и малым группам, вписанным в микрогрупповые контексты и уровни ситуативного кодирования, становится проще ориентироваться в широких публичных пространствах и оперировать неотъемлемыми от этих пространств системами абстрактных категорий и ) группам и индивидам, контролирующим широкие публичные пространства, становится проще «перекодировать» поведение «народных масс», вписывая их в «большие логики» и навязывая им ответственность за те ресурсы (политические, экономические, социальные, культурные и т.д.), которые радикально превышают уровень их компетенции и контролировать которые они, соответственно, не в состоянии.
«Мать-родина», «культурное наследие», «ученье — свет», «нравственный долг» — и далее по списку: один член метафоры отсылает к «вмененным» (то есть воспринимаемым некритично, как некая не требующая рефлексии данность) характеристикам из репертуара семейного уровня ситуативного кодирования, другой представляет собой максимально широкое и абстрагированное понятие, «превышающее пределы компетенции» обыденного человека и, следовательно, также не являющееся для него предметом привычной рефлексии. Замкнув одно на другом, получаем необходимый результат — вмененную ответственность за неконтролируемые, нерефлексируемые и необозримые суммы обстоятельств — ответственность, которой в дальнейшем можно манипулировать, канализируя в нужное русло, выстраивая на ее основе должным образом ориентированные системы социальных аттитюдов, которые сами носители этих аттитюдов будут воспринимать как собственные «мировоззренческие установки» и «жизненные позиции».
Свежие комментарии